Говорят, определить длину линии своей жизни человек не в силах, но вправе задать ее ширину. Судьбы людей подобны рекам – каждый прокладывает свое русло: кто-то выбирает проторенный путь, а другой смело бросает вызов неизвестному, чья-то река не выйдет за пределы родного поселка, а кому-то удаcтся дойти до океана, вместив в себя историю своей страны, своего поколения, дела, которому посвятил жизнь.
Об одном из таких людей – людей-океанов, нашем современнике, уфимце, ученом с мировым именем – в 2019 году вышла книга воспоминаний «Что остается людям. Линия жизни Семена Валентиновича Шапиро».
Более 70 авторов делятся воспоминаниями о человеке, знакомство с которым стало знаковым в их судьбе.
Свойственные С.В. Шапиро широта натуры, обаяние интеллекта и чувство юмора притягивали к себе самых разных людей – ученых и художников, учителей и артистов, журналистов и писателей. Каждый из них рассказывает о своем Семене Шапиро – для кого-то он студент, не побоявшийся вступить в схватку с хулиганами, для кого-то – умный и терпеливый наставник, изысканный кавалер и прекрасный рассказчик, бескомпромиссный ученый… «Он как живой на этих страницах – не мыслящий себя без любимой работы, бесконечно талантливый, одержимый научными идеями и недюженной энергией по преодолению бессмысленных препонов на пути воплощения их в реальную действительность. Один из немногих, кто сумел остаться собой, сохранить достоинство в тисках системы, в давлениях среды, направленно ломающих человеческую индивидуальность, вгоняя ее в усредненное “прокрустово ложе”. Крупный ученый, неординарный мыслитель, меньше всего заботящийся о карьере и званиях, скрупулёзно честный, порядочный, дорожащий своим именем и принципами, всегда остававшийся скромным, тактичным, доброжелательным – такой справедливо представлена этим авторским сообществом линия жизни профессора Семена Валентиновича Шапиро», – написала в предисловии к книге его жена и соратница, составитель сборника Алла Анатольевна Докучаева.
В книге представлены и мемуары самого Семена Валентиновича, с которыми мы и знакомим сегодня читателей.
Редакция
Вместо предисловия
Когда я был маленьким и ходил в детский сад, моя мама любила говорить, что я очень хороший мальчик, когда сплю. Говорила она это достаточно часто, во всяком случае достаточно для того, чтобы эта мысль проникла глубоко в мое подсознание. Став старше, я понял, что для того, чтобы нравиться людям, надо как можно больше спать. Но, видимо, так устроен мой мозг… отсюда родилась другая идея: главным удовольствием в жизни является сон. Потом, много лет спустя, я узнал, что древними греками была разработана шкала удовольствий (или наслаждений – как правильнее?), и сон в ней занимал далеко не последнее место. Может быть, поэтому моим любимым поэтом стал Михаил Юрьевич Лермонтов, в одном из самых проникновенных стихотворений которого есть такие слова: «…я б хотел забыться и уснуть, но не тем холодным сном могилы…»
Впрочем, не могу утверждать, что мне легко давалось в жизни часто получать желанное удовольствие. Жизнь всегда так устроена, что удовольствие ускользает, и ты снова и снова тянешься к нему. Кто-то мечтает стать великим – актером, ученым, художником, государственным или общественным деятелем, изобретателем, мыслителем, кто-то мечтает о великой любви, кто-то – о богатстве, кто-то – о том, чтобы стать знатным и общеизвестным, кто-то – о скромной, но честной жизни, кто-то – еще о чем-то. Но все в конечном счете мечтают о том, чтобы получить удовольствие… И если его достигают, то счастливы.
У меня, в отличие от многих, главной мечтой было выкроить время, чтобы поспать. Но именно в достижении этого я больше всего встречал препятствий. Собственно, о том, как я их пытался преодолеть и даже иногда преодолевал, мои воспоминания.
На берегу Таракановки
Мои родители жили в Москве именно в том районе, где потом, в середине 30-х годов, заканчивалась одна из первых линий знаменитого московского метрополитена, а в 1932 году находилось село Всесвятское. Но рожать меня мама поехала к своим родителям, которые все еще оставались жить в пределах предусмотренной царской властью черты оседлости – в Белоруссии, в Рогачёве. После родов она тотчас вернулась назад, в Москву, к своему мужу – моему отцу, и метрику о моем рождении получала в ЗАГСе Ленинградского района.
Я думаю, что это справедливо – считать меня уроженцем Москвы. Никогда после я в своей жизни не был в Рогачёве, и мне мало что известно об этом городе. Знаю только, что он стоит, как и Киев, на берегу Днепра. Правда, здесь его можно было перейти вброд, в крайнем случае, переплыть за несколько минут. И знаю, что немцы захватили его в первые же дни войны и всех не успевших оттуда эвакуироваться евреев (а среди них наверняка были и мои, пусть отдаленные, но родственники) уничтожили.
К счастью, мои дедушка и бабушка еще до войны успели уехать оттуда в Москву, где поселились три их дочери – моя мать Рива и две ее сестры, старшая Рая и младшая Ида. У моих родителей в маленькой комнатушке дома № 123 по Ленинградскому шоссе пожилых переселенцев приняли радостно.
Как известно, год моего рождения совпал с годом окончания первой пятилетки – пятилетки индустриализации и коллективизации. Поскольку эти величайшие экономические вершины покорялись большевиками единственным известным им приемом – силового изъятия, сопровождавшегося яростным призывом к энтузиазму, то есть работе не ради денег и нормальной жизни, а ради светлого и счастливого будущего. Дом наш представлял собой обычную деревенскую избу, хозяева которой были изгнаны в сарай, а жилая часть разделена на две так называемые квартиры. Мои родители жили в «квартире номер один» – это была основная часть избы, поделенная фанерными перегородками на четыре комнаты размером по 6–10 м2. В каждой жила семья. Нашей досталась комната размером менее 10 м2, которая располагалась напротив окна, выходившего во двор.
Жили мы с соседями дружно, если не считать соседку Валю, которая поселилась в четвертой комнате. Она была довольно скандальной особой, работала в сфере общественного питания и часто меняла мужей.
Бывшие хозяева дома жили в сарае на задней площадке двора, его переделали под человеческое жилье, то есть отапливаемое печкой. Судя по всему, общались с ними и мы, и наши соседи крайне редко, что было не удивительно. Впрочем, в таком же положении, как и они, были бывшие хозяева всех остальных домов в бывшем селе Всесвятском.
За нашими домами протекала речка Таракановка. Она текла откуда-то со стороны завода имени Войкова. Те, кто сейчас живет в многоэтажных домах улицы Алабяна, может быть, даже не подозревают, что под ними по трубам течет эта речка. Но для моего детства она была чуть ли не главным географическим ориентиром. Наш дом был на левом берегу Таракановки, а на правом – поселок Сокол, по имени которого и назвали станцию метро. В поселке жила советская художественная элита и ее глава – народный художник Герасимов. Звания в Советском Союзе присваивали чиновники, но называли их при этом «заслуженные», «народные». Прекрасные по тем временам виллы находились в этом поселке «Сокол».
Родители мои, как многие молодые евреи после отмены черты оседлости, приехали в Москву из западных областей Советского Союза – отец из Украины, мать – из Белоруссии.
Родина моего папы – Валентина Львовича (Вольфа Лейбовича) Шапиро – город Балта Одесской области, а мамы – Ривы Ильиничны (Ривы Эльявны) Коган – город Рогачев Гомельской области.
Меня отдали в детский сад при заводе имени Сталина (позднее – ЗИЛ). На этом заводе работала моя мама – старшим контролером ОТК. Отдавали меня в сад на целую неделю и только на воскресенье забирали домой. Это были самые счастливые мгновения моего детства. Дома меня все любили – папа, мама, дедушка и бабушка. Судя по всему, и я им не очень досаждал. Пожалуй, больше всего хлопот я доставлял с едой – ел плохо, хотя бабушка готовила очень вкусно. Мои капризы с едой кончились в начале войны. Именно тогда я впервые понял, что такое голод, и с тех пор ел все и помногу. Из чего я заключил, что детей не надо уговаривать есть, – они проголодаются и сами попросят.
В детский сад мама возила меня через весь город – на двух или даже трех трамваях, а после пуска метро – сначала от станции «Сокол» до «Курского вокзала», а там на трамвае до автозавода. Самым ненавистным занятием был «мертвый час». И хотя я, как сказано выше, любитель поспать, днем ни мне, ни моим сверстникам спать не хотелось. Поэтому длился этот «час» мучительно долго. Впрочем, однажды мне крупно повезло. Днем нас выводили гулять в садик, который находился под высокой кирпичной стеной, отделявшей завод от окружающих домов и улиц. Там мы лепили в песочнице какие-то незамысловатые игрушки. Было довольно скучно. И вдруг для нас достали трехколесный велосипед, и мы с радостью на нем катались по очереди – два или три круга и передавали следующему. Когда дошла до меня очередь, мальчик по фамилии Соколов не захотел отдавать мне велосипед, схватил деревянную биту из лежавшего рядом набора каких-то игрушек и ударил меня по лбу. Да так сильно, что потекла кровь. Все сразу окружили меня и повезли в больницу. В результате я в течение месяца вместо «мертвого часа» ездил с нашей воспитательницей на перевязку. Все ребята мне завидовали.
И еще раз удалось избежать «мертвого часа»: нас повезли в Мавзолей показывать мертвого дедушку Ленина. Мне было очень страшно, и это отпечаталось в памяти.
В сентябре 1940 года, когда мне исполнилось 8 лет, меня отдали в школу. Тогда все учились с восьми лет. Школа № 149 Ленинградского района находилась на улице Врубеля – на правом берегу Таракановки. Учиться мне нравилось. Учебник по арифметике я просмотрел вперед и поэтому с нетерпением ждал, когда наконец станем считать до 1000. Читать я научился в школе довольно быстро и уже во втором полугодии записался в библиотеку. Чтение книг меня захватило, я ходил в библиотеку каждую неделю и приносил оттуда по 3–4 книги.
И еще меня записали в драматический кружок. Вел его какой-то артист то ли Малого театра, то ли МХАТа. Из всех его занятий я запомнил лишь то, когда читали стихотворение «Гроза» Тютчева: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя…»
Так вот он настойчиво повторял, что говорить надо не «резвяся», а «резвясааа». По-моему, на этом мое приобщение к актерскому мастерству в детстве кончилось. Правда, потом, уже в седьмом классе, я из солидарности со своим другом стал ходить в драматический кружок при районном Дворце пионеров, но эта профессия меня явно не увлекла.
Учительницу моего класса звали Клеопатра Мартыновна. Такое имя-отчество забыть невозможно. Труднее всего мне давалось чистописание. Писали тогда пером № 86, которое обеспечивало именно тот нажим, что требовала программа. Этот нажим я плохо осваивал, как и все другие изыски каллиграфии. Дело в том, что от природы я левша, а в СССР долгое время считалось, что писать и вообще все делать нужно правой рукой. И я до сих пор с завистью смотрю на тех моих студентов, которые пишут левой рукой. Видимо, понадобилось много лет, чтобы советская педагогика поняла: левша должен писать левой, и ничего в этом страшного нет.
Из довоенных детских воспоминаний нужно рассказать о «мамонах». Дом, в котором я жил, как и ряд соседних, был не на самом берегу Таракановки, а чуть поодаль. Ребята, которые жили в домах на самом берегу, были почему-то во враждебных отношениях к «ребятам с нашего двора». Их ватага называлась «мамонами». При возвращении из школы «наши ребята» подвергались нападению и избиению. Потом тоже собирались в ватагу и мстили. Я же к «ребятам с нашего двора» никакого отношения не имел, хотя знал по именам и при встрече здоровался. Тем не менее, «мамоны» считали нужным нападать и на меня. Я этого боялся и старался обойти мост через Таракановку, где обычно они собирались. Еще один мост был проложен непосредственно рядом с шоссе, но предназначался только для трамваев. Переходить по нему было опасно, в некоторых местах под рельсами зияла пустота, и можно было провалиться в речку. И хотя я жаловаться не любил, хорошо усвоив еще в детском саду закон ребяческой чести, мне пришлось рассказать о «мамонах» и своем страхе родителям. И когда на следующий день я возвращался из школы и при переходе моста на меня напали «мамоны», вдруг на них налетел мой папа. Они испугались, убежали и больше меня не трогали.
Вспоминая учебу в первом классе, не могу не рассказать о своем первом походе в театр в парке «Эрмитаж». Показывали сказку о царевне-лягушке. Мне запомнилась сама царевна. Я был поражен ее красотой. Кажется, именно тогда я впервые в жизни понял, что такое красота.
Вскоре после этого первого в жизни посещения театра дедушка повел меня в гости к своим знакомым, и там я был поражен обратным – как некрасива их дочка. Она была рыжей и с веснушками. Мне ее стало жалко – я почему-то подумал, что такую никогда ни один парень не полюбит. Но я ошибался – уже после войны я узнал, что она благополучно вышла замуж. Так я начал постигать в восьмилетнем возрасте основы эстетики.
Но вообще моим воспитанием, тем более развитием интеллекта, как ни странно, больше всего занимался дедушка. Может быть, именно благодаря ему в дальнейшем я увлекся математикой и вообще точными науками. Он мне задавал интересные логические задачи.
Летом 1940 года в Москве открылась ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. После метро это был второй по значимости монумент Советской власти. Для меня особенно приятным оказалось то обстоятельство, что на этой выставке стал работать мой папа. До этого он работал в ресторане «Арбат». Его профессия называлась марочник. Что это означало, я не знаю, он сидел в белом халате и белой шапочке в окошке, через которое официантки получали из кухни заказанные блюда. Он собирал эти заказы и обеспечивал их выдачу официанткам работниками кухни. Перевод в ресторан ВСХВ свидетельствовал о том, что начальство его ценило.
Сама выставка меня ошеломила. Такого количества красивых зданий, фонтанов, аллей я до этого времени не видел. Ходили мы с мамой по этой выставке целый день. Если добавить к этому жизнерадостные песни, которые непрерывным потоком лились из радиотарелки, всякого рода демонстрации, сообщения о трудовых и прочих победах нашего народа под мудрым руководством партии и вождя, то понятна моя уверенность в том, что я живу в самой лучшей стране мира. И главное, она никого из своих граждан не оставляет в беде – ни челюскинцев, ни папанинцев, ни альпинистов, спустившихся в кратер вулкана на Камчатке. А когда враги пытались напасть на нас – на Дальнем Востоке, у озера Хасан, в Монголии, у Халхин-Гола, на Карельском перешейке – наша доблестная Красная Армия легко расправлялась с захватчиками… И хотя я был еще совсем маленьким – к началу войны мне только исполнилось девять лет, но вера в справедливость и гуманность социализма у меня не вызывала сомнений. И дело здесь не только в пропаганде (а она была весьма навязчивой и даже где-то изощренной), а в заложенной на генном уровне уверенности в том, что все то, что делают и говорят взрослые, правильно.
Первый класс я закончил со всеми пятерками, даже по чистописанию, хотя, думаю, Клеопатра Мартыновна мне по этому предмету оценку натянула, так как почерк у меня на всю жизнь остался корявым. И уже в начале июня 1941 года я первый раз в жизни поехал в пионерский лагерь – для детей работников завода имени Сталина. Он располагался в районе Малого Мячикова. Много лет спустя я искал на карте этот район, но так и не нашел. Знаю только, что вокруг было много военных аэродромов. Впрочем, об этом я узнал позже, когда началась война.
Открытие лагеря состоялось в воскресенье, 15 июня. В этот день впервые к нам приехали родители. А на торжественной линейке выступил какой-то генерал. Это звание ввели совсем недавно, и я был немного покороблен, так как к тому времени усвоил, что офицеры и генералы были в белой армии, а в Красной – только командиры. В своем выступлении генерал сказал, что немецкие фашисты собираются напасть на нашу родину, но они получат такой отпор, что мокрого места не останется. Эта фраза удивила меня, но много позже, когда сначала Молотов, затем Сталин и вслед за ними все, кто публично тогда выступал, говорили, что фашисты напали на нас вероломно, и наш миролюбивый народ этого никак не ожидал…
Надо сказать, что начало войны сказалось на качественном изменении моего сознания. Если до этого я запоминал надолго лишь отрывочно некоторые события, то теперь все они слились в памяти в один сплошной поток. Очевидно, это сделало меня маленьким взрослым.
Война. Раннее взросление
Летом 41-го в пионерском лагере нас задержали на более долгий срок из-за начавшейся войны. Помню, за неделю до отъезда был последний родительский день, и приехала только мама. Отца призвали в армию. Я запомнил одну деталь – как она хрустела пальцами. Только много лет спустя я узнал, что у нее был выкидыш – так не родились моя сестричка или братец.
В первую же ночь после возвращения в Москву мы пошли прятаться от бомбежки в метро. Я и сейчас проезжая мимо станции «Сокол», вижу проемы в туннеле, между путями для поездов в обе стороны. Станция была конечной, но пути шли дальше, в направление завода Войкова, где находилось депо. Именно в этом направлении мы вместе с другими жителями окрестных домов располагались на ночлег. Из дома брали с собой, на чем можно было спать – подушки, одеяла, ну и все необходимое. Мама брала документы – мало ли что, вдруг дом разбомбят.
Так продолжалось примерно неделю. В эту неделю мы с мамой поехали куда-то на край Москвы в казарму, где располагалась воинская часть, в которой служил и обучался папа. Ее, видимо, еще не успели отправить на фронт. Папа вышел к нам ненадолго. Был он в военной форме, на голове пилотка. Погон тогда не было.
Еще через неделю меня с другими ребятами из нашей школы вывезли на автобусах на восток Московской области в город Петушки. Правда, позже этот городок стал принадлежать Владимирской области. Нас поселили в каком-то пансионате. Там я впервые понял, что такое голод. Кормили нас плохо. Иногда кому-то из нас удавалось наняться разгружать машину с хлебом в столовой. Тогда «грузчикам» доставалось (на всех) по кирпичику хлеба.
И еще можно было сходить в близлежащий лес, за грибами. Их мы сдавали на кухню, и поварихи варили суп для тех счастливчиков, которым удавалось их набрать.
И еще я помню полуразрушенную церковь с высокой кирпичной колокольней, куда мы забирались, чтобы посмотреть сверху на городок. Взрослые нами не занимались, и мы были предоставлены самим себе. Единственное, что там было хорошо – жили без воздушных тревог. Видимо, немцам было не до этого маленького пункта – их самолеты летали дальше на восток, на Владимир и Горький.
Дней через десять за мной приехала мама. Вместе с дедушкой, бабушкой и обеими ее сестрами она собралась уехать в эвакуацию. Была вторая половина августа, и немецкие орды неудержимо надвигались на Москву. К тому времени стало понятно, что немцы, захватив тот или иной город, в первую очередь уничтожали евреев – всех поголовно, от мала до велика. И поэтому начальство не препятствовало отъезду, хотя об опасности для Москвы еще не было и речи. Но меня, оказывается, маме из пансионата отдавать не хотели – было указание сверху всех детей вывезти дальше на восток, кажется, в Среднюю Азию. И если бы моя мама не приехала вовремя, неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Ведь ничего ни о маршруте эвакуации детей, ни об их конечном месте жительства родным не сообщали. Со слезами, нервами мама меня буквально выцарапала.
Уезжали мы c Казанского вокзала. Кроме нас, были еще двое детей тети Раи – Марик 3 лет и Маня 6 лет. Разместились в «теплушке» – пустом товарном вагоне. Поезд до Канаша – места нашей эвакуации – тянулся целых трое суток. Канаш был выбран взрослыми потому, что ходили слухи о достаточно сносных условиях жизни.
Однако городские власти Канаша встретили нашу ораву не слишком приветливо – видимо, к тому времени число эвакуированных было уже слишком велико, и нас отправили в деревню километрах в двух от города. Впрочем, это была не одна, а две деревни – Большие и Малые Бикшихи. Нас поселили в Малых Бикшихах, в доме одинокого мужчины, которого призвали в армию. Мама и дедушка сразу же пошли работать в колхоз. Бабушка и тетя Рая остались с детьми. Тетя Ида, как шибко партийная дама, была назначена продавцом в сельпо.
На работу в колхозе мама брала меня. Помню, она серпом срезала рожь и меня научила вязать из нее снопы. Поскольку за определенное количество снопов давали трудодни, моя помощь была не лишней. Эти снопы сначала собирались в стога, а затем на телегах увозились на колхозные тока. Среди тех, кто управлял лошадьми, был и мой дедушка. И хотя он всячески старался, даже мне было видно, что делал он все – запрягал лошадь, садился в телегу и прочее – весьма неумело, по-городскому. Потом мама цепами вместе с другими женщинами молотила рожь, а меня поставили убирать обмолоченную солому.
Самое печальное было то, что на заработанные трудодни колхоз выдал… гороховую солому. Единственное, на что она сгодилась – бабушка набила ею пододеяльники, сделав из них матрасы, на которых мы спали.
Чтобы не умереть с голоду, дедушка упросил председателя колхоза разрешить покопаться на поле, с которого убрали картошку. Он взял меня с собой, и мы сумели собрать еще мешка полтора–два, что хватило до Нового года. Правда, помню, когда мы копали убранное поле, пришел председатель и ругал деда, что он занимается черт-те чем, вместо того, чтобы работать.
Электричества в деревне не было, и вечерами комнату в избе освещала тусклая керосиновая лампа.
Иногда, когда мама не брала меня на работу, я гулял с двоюродными братиком и сестрой в овраге, недалеко от дома. Однажды, во время этой прогулки, я случайно вышел из-за стоявшей в этом овраге бани на тропинку, и меня сбила лошадь, на которой скакал местный парень. От удара я на несколько мгновений потерял сознание, а когда очнулся, всадник был на другой стороне оврага. Он оглянулся, увидел, что я встаю, и помчался дальше. Удар пришелся на то самое место на лбу, куда меня ударил в детском саду мальчик Соколов, и где уже была отметина. Окончательно придя в себя, я попросил Маню и Марика ничего не говорить об этом. Впрочем, родные через несколько дней об этом все равно узнали, так как парень через своих родных стал выяснять, оклемался ли я. Меня отругали за то, что ничего не сказал. Но на моем самочувствии этот удар никак не сказался. Видимо, после биты Соколова передняя часть мозга у меня закалилась…
1 сентября я пошел во второй класс сельской школы. Она была в Большой Бикшихе, и мне приходилось ежедневно ходить туда по полю, что-то около километра. В школе учили по-чувашски, я ничего не понимал… Единственное, что занимало мое внимание во время уроков – географическая карта, которая висела возле моей парты. Так что я стал изучать географию на два класса раньше, чем это следовало по учебному плану. Кстати, именно тогда я узнал, что, кроме Советского Союза, по социалистическому пути следовали еще две республики – Монгольская народная и Тувинская народная. Сейчас уж давно забыли, что Тува не входила в состав Российской Федерации как автономная республика, а была независимой. СССР ее «прикарманил» незаметно и с молчаливого согласия всего мира в 1944 году. Еще я более-менее неплохо чувствовал себя на уроках арифметики. Я все понимал по цифрам, которые писались на доске. Решилась проблема и с чтением. В Большой Бикшихе была библиотека, в которую я записался. Правда, чтобы попасть в нее из школы или из Малой Бикшихи, нужно было перейти довольно глубокую речку. Мост через нее представлял собой три качающиеся жердочки. Однажды я даже свалился с них и полностью промок.
Еще одним источником книг были частные библиотеки соседей. Дело в том, что печка нашего дома имела весьма скверную особенность. Если ее, после того, как вытопится, не закрыть заслонкой, то она моментально остывала. Но если заслонку закрыть на мгновенье раньше, чем окончательно сгорят дрова, то изба наполнялась угарным газом. Так и получалось в начале осени – мы все угорали. Это было просто мучительно. Наконец, нашли выход – мы уходили часа на два к соседям – местным сельским интеллигентам: агроному, учителю, фельдшеру. У всех была домашняя библиотека, и я почти сразу после прихода к ним набрасывался на книги. В то же время я пристрастился читать газеты. Особенно меня интересовали сводки информбюро. Хотя были они далеко не радужными. Писались ежедневно по одному трафарету – сначала о том, сколько атак (контратак) провели наши части, сколько при этом уничтожили фашистов и танков, а затем – что вынуждены были оставить тот или иной город или даже несколько городов. И только однажды, кажется, в середине сентября, сообщили, что Красная Армия освободила Ельню. Это было первое наше наступление. Оно, видимо, быстро захлебнулось, потому что опять пошли сводки о сданных городах…
В середине октября приехал из Москвы дядя Борис – муж Раи, отец Мани и Марика. На нем не было лица – так он был напуган. Сказал, что Москву вот-вот сдадут, там паника, и его часовой завод в кратчайший срок эвакуируют в город Чистополь. Потом, уже летом 1942 года, устроившись на новом месте, он приехал забрать свою семью. Потом я узнал, что он хотел забрать и меня, но дедушка не отдал, и я остался в Бикшихе.
Неприятные воспоминания того времени связанны с частыми ссорами между сестричками – понятно, теснота, голод… Как правило, в их споры вмешивался дедушка с возгласом «Гвалт…» Много лет спустя, читая «Детство» Горького, я обратил внимание на то, что и в семье Кашириных было далеко не все гладко. И когда ссорились между собой братья – дяди Алеши Пешкова, его дед встревал в их ссору возгласом «Эх, вы-и…» Очень похоже на моего дедушку…
Моя бабушка была сама доброта. Более доброго и заботливого человека я не встречал в своей жизни. Разве что мой папа. Особенно вкусно она готовила. Хотя продуктов было мало, в основном, все блюда из картошки, но пюре с жареным луком – вкуснее ничего не ел. Именно в эвакуации от нее я узнал, что самая вкусная картошка – рассыпчатая. Я даже научился распознавать, какие клубни станут «рассыпаться»: те, кожура которых имеет вид гусиной кожи – покрыта мелкими крапинками.
В каждом дворе и Малой, и Большой Бикшихи была собака, и все они громко лаяли, почуяв меня (да и всех проходящих). Собак я очень боялся. Однажды еще до войны дедушку укусила, откуда не возьмись, огромная собака. Меня поразило, что рану обработали керосином, чтобы предотвратить заражение бешенством. Ему было очень больно, я сильно переживал. С тех пор, по сути дела, все детство боялся собак. И еще гусей. Особенно, когда они, выгнув шею, злобно шипели, намереваясь укусить. В общем, был я не из храбрецов. Хотя именно в это время я начал мечтать, представляя себя командиром, который, возглавив дивизию Красной Армии, и наконец-то остановит фашистов.
Папу, между тем, отправили на фронт, и он оттуда присылал письма в виде треугольников. На каждом стояла печать: «Проверено цензурой». Так что уже тогда я понял, что в письмах надо писать далеко не все.
А в деревне как только кому-то из парней исполнялось 18 лет, и его тут же вызывали в военкомат. Провожали ребят в армию всегда одним и тем же способом: по деревне ехала подвода с родственниками, которые напевали одну и ту же чувашскую мелодию. Поскольку я чувашский язык тогда еще не знал, мне слышалось заунывное «Ах, ой-яй-яй, ах ой-яй-яй».
Чуваши были православными, в Большой Бикшихе была действующая церковь. К религии у меня еще до школы сложилось отрицательное отношение. Не помню, от кого, но я усвоил, что ее придумали богатые, чтобы обманом держать бедных в повиновении. Да и в книгах, которые я читал, писалось, как церковь уничтожала ученых за то, что они несли свет знаний простому народу. Тем не менее, дедушка у меня был верующим – каждое утро он надевал тогу и читал молитву на непонятном языке – иврит. Зимой 1941–42 года он решил и меня приобщить к иудаистской религии. Для этого достал где-то Библию («Старый завет», как я узнал позже) и дал мне читать. Издана она была до революции и написана весьма своеобразно: левая половина каждой страницы по-еврейски, а правая – по-русски. Мне она показалась довольно скучной. Эти постоянные перечисления, кто кого родил, кто сколько жил, кто на ком был женат, я плохо запоминал (вернее, совсем не запоминал). Дедушка, видимо, это понял, забрал у меня Библию, так и не дождавшись, когда я ее прочту до конца.
В конце ноября в сводках информбюро появились обнадеживающие сообщения – Красная Армия перешла в наступление. Сначала освободили от немцев Тихвин, потом Ростов-на-Дону. А в начале декабря началось масштабное наступление под Москвой. Города освобождались один за другим – Клин, Нарофоминск, Волоколамск, Калинин…. Мама с Идой засобирались назад, в Москву. В Канаше мимо нас на фронт проезжала какая-то воинская часть, и ее командиры решили тайно, явно незаконно провести их в Москву. Возвращаться из эвакуации было строго-настрого запрещено, но воинские составы не проверялись. Вот они этим и воспользовались.
Помню, что их отъезду предшествовало получение письма от нашей соседки по коммунальной квартире – тети Клавы. Она в восторженных тонах писала о том, как москвичи защищали свой город. Сообщалось, в частности, и о том, что отряд немецких мотоциклистов прорвался по Ленинградскому шоссе до развилки с Волоколамским шоссе, но был уничтожен. Потом нигде я об этом не сумел прочесть. Так что не знаю, был ли этот эпизод на самом деле.
Я остался в Бикшихе на попечении дедушки, бабушки и тети Раи, которая устроилась после отъезда Иды на ее место – продавщицей сельпо. Несмотря на это, с едой у нас было туго, и однажды дедушка, когда все запасы стали совсем истощаться, на санках поехал в другие деревни менять наши вещи и привез полные санки с картошкой, морковью и другими непортящимися продуктами. Рассказал, что те деревни, в которых он побывал, были гораздо богаче наших Бикших.
Зима в Чувашии оказалась весьма суровой. Возвращаться из школы домой по заснеженному полю без видимой тропинки было весьма трудно. Однажды в пургу я сбился с дороги и чуть было не проскочил свою деревню, но услышал лай собак. На сей раз они меня выручили – я обнаружил, куда надо идти.
Весной 1942 года, когда снег стаял и установилась теплая погода, дедушка решил вскопать примыкающий к дому двор. До этого его никогда не копали, так что в земле было много корней. Особенно крупные из них дедушка принял за хрен. Но когда бабушка его натерла, оказалось, что это корни от лопуха и репья. Дедушка посадил картошку, помидоры, огурцы и лук. Тогда я впервые узнал, что картофелину надо сажать в лунку не целиком, а разрезав на части, чтобы в каждой был глазок – зародыш будущего куста. А еще мы с дедом обнаружили, что во всех оврагах, окружавших деревню, рос щавель. Местные крестьяне не знали, что он съедобен. В результате мы набирали целые мешки щавеля и несли в город на рынок продавать. Эвакуированные из западных областей с радостью брали щавель, тем более что продавал их дедушка недорого. Потом, когда созрели огурцы, мы с дедушкой и их продавали.
Доставались они и нам, даже бабушка засолила целую кадку.
К тому времени я выучился неплохо говорить по-чувашски. Настолько, что иногда взрослые приглашали меня в качестве переводчика, когда нужно было о чем-то договориться с местным руководством. Спустя пару лет, уже после возвращения из эвакуации в Москву, я, идя из школы, услышал, что группа наших солдат говорит по-чувашски. Я встрял в их разговор, чем их очень обрадовал. Но затем уже спустя лет пять-десять я совсем забыл этот язык. Осенью с фронта вернулся хозяин избы. Он был на костылях, без одной ноги. Естественно, наше пребывание в доме его не устраивало. Поэтому ближе к зиме сельсовет переселил нас в другую избу, уже в Большой Бикшихе. Мне это было удобнее – ходить в школу гораздо ближе. Но тут на нашу семью свалилась новая беда – в начале зимы заболела бабушка, а в марте 1943 года она умерла. Это была первая смерть, которую я пережил в своей жизни. Целую ночь продолжалась агония. Она даже не стонала, а хрипела. Под утро хрип прекратился, она спустилась с печки на кровать. Видимо, боль ее отпустила. Она глазами нашла дедушку, прошептала ему по-еврейски «Эля, береги детей» и перестала дышать. Через три ночи она мне приснилась. Будто вышла из-под снега, и я ей сказал: «Бабушка, как хорошо, что ты опять здесь, а то я думал, что с тобой случилось что-то страшное».
Красную Армию стали называть Советской. Она опять в конце ноября 1942 года перешла в наступление. Складывалось такое мнение – летом наступают фашисты, а зимой – наша армия. Меня больше всего поразило, что командиров начали именовать офицерами и ввели погоны. Я думал, что погоны носят белогвардейцы. Их иногда называли даже «золотопогонниками». Звания генералов и адмиралов появились еще до войны. Очень быстро я усвоил военный табель о рангах. До сих пор не могу понять, почему майор старше лейтенанта, а генерал-майор младше генерал-лейтенанта. Еще появились младшие командиры – ефрейторы, младшие сержанты, сержанты, старшие сержанты и старшины. Они не были офицерами. Например, мой папа дослужился до старшего сержанта.
Товарищ Сталин регулярно выступал два раза в год – 1 мая и в День Октябрьской Революции. Его речи были достаточно короткими, ясными и четкими. В каждой из них обязательно была фраза, которую потом повторяли все газеты до следующего выступления. В октябре 1942 года он сказал: «Будет и на нашей улице праздник». В мае 1942 года – «Красная Армия развеяла миф о непобедимости немецко-фашистских войск». В 1943 году, не помню когда, в мае или октябре, он привел пословицу «Молодец против овец, а против молодца сам овца». Кроме речей товарища Сталина, большое впечатление на меня производили статьи Ильи Эренбурга. Они отличались от трафаретных репортажей обычных газетчиков свободным стилем и большей информативностью.
В конце июля дедушка решил пешком пойти в Москву, не дожидаясь официального разрешения. И мы, взяв в рюкзаки все свои пожитки и хлеб для еды, пошли вдоль железной дороги. Предстояло пройти порядка 500 км. Вышли рано утром и прошагали довольно быстро первые десять километров. На пути оказалась какая-то станция, и дедушка сумел договориться с проводником товарного поезда. Наше путешествие существенно ускорилось. Мы даже умудрились на этой платформе поспать до утра. Но на станции Арзамас нас забрали в милицейский участок. Во дворе участка было полно так называемых мешочников, которые закупали продукты и, «зайцами» вернувшись в Москву, продавали их на рынке.
Посреди двора поставили стол, покрыли его красной скатертью и объявили нам с дедом, что будут нас судить – вместе с каким-то мужчиной, которого привели милиционеры. Суд длился около часа, и мужчину засудили на 5 лет тюрьмы. Я мигом сосчитал, что если и меня с дедушкой засудят на 5 лет, то я выйду на свободу шестнадцатилетним, и у меня останется еще много лет, чтобы жить. Но судья убрала стол со скатертью и ушла. Мы переночевали в участке, где оказалась пустая комната, а наутро дедушке начальник отделения вернул паспорт и сказал: «Я ничего не смог для вас сделать. Надо вернуться назад, в Канаш». Когда мы вышли за дверь, дедушка произнес по-еврейски: «А ваде!», что в переводе означало (по крайней мере, в той ситуации): «Как бы не так!» И мы пошли дальше, вдоль железной дороги.
Это целая эпопея, как мы шли, ехали, опять шли, мокли под дождем, снова загружались в товарняк, попадали в милицию. Если подходили к реке, то мост охраняли военные, тогда искали лодочника. Ехали на платформе, спрятавшись в ворох стружки, которую потом обшаривал милиционер. Проходили дни и ночи, от станции к станции. Наконец повезло, уже поближе к Москве даже билеты купили на какой-то поезд, потом опять товарняк, который доставил в Шатуру. Там такие же «зайцы» сказали, что впереди – станция Куровское, где дежурит милиция, но ее можно обойти пешком. Мы поначалу так и сделали, но рядом медленно проходил состав, и все, в том числе мы, решили проехаться и сойти уже поближе к станции. Увы, не дожидаясь остановки, на подножку запрыгнул милиционер. Тут уж нас повели на вокзал и отправили обратно в Канаш. Как выяснилось, из Бикшихи нас выписали, в Канаше не было крыши над головой, кто-то нас приютил «дня на два-три». Только позже я осознал, в какое сложное положение мы попали после этих «двух-трех дней» – семидесятилетний старик и 11-летний мальчишка. И вдруг, когда, казалось бы, все было кончено, впереди – зияющая пустота, появилась мама: «Где вы? Куда делись? Целый день ищу…» Как уж она нас нашла, понятия не имею, а как получила разрешение на наше возвращение, я от нее сразу узнал. Автозавод имени Сталина выпускал во время войны гусеничные тягачи. И вот летом 1943 года их выпуск оказался под вопросом – в цеху, где мама работала старшим контролером, пошел брак какой-то детали (кажется, коленвала). Срыв военных поставок грозил трибуналом директору и всему командному составу. К поиску причин брака были подключены ведущие инженеры-конструкторы и технологи. Но найти причину брака не смогли. Ее нашла моя …. После того, как это нарушение устранили, брак прекратился.
Иван Алексеевич Лихачев, легендарный директор завода, лично пришел в цех познакомиться с работницей, спасшей коллектив от невыполнения военного заказа. Он обнял маму и сказал, что она для него дороже всех инженеров и начальников: «Проси у меня любую награду, премию».
– Мне ничего не надо, – ответила мама, – только вернуть в Москву из эвакуации отца и сына.
– А Святого Духа там нет? – спросил, улыбаясь, Иван Алексеевич и, обернувшись к начальнику отдела кадров, стоявшему в его «свите», приказал немедленно выдать это разрешение. На сей раз начальник выдал разрешение, за которым мама ходила к нему целый год.
Так в середине августа 1943 года мы с мамой и дедушкой в плацкартном вагоне пассажирского поезда поехали совершенно легально из Канаша домой. Настроение было приподнятое, радовали успехи нашей армии на фронте: фашистов погнали на Запад.
Дом наш на Соколе почти не изменился. Только пропали ворота. Они были деревянные, и в 1941 году их изрубили на дрова. В нашей комнатенке, площадь которой была едва 6-7 м2, была установлена печка-буржуйка, которая зимой топилась дровами. Каждой семье выделялось по кубометру дров, их надо было еще распиливать и рубить. Пилили мы вдвоем с дедушкой, а рубить приходилось мне. Так я освоил профессию лесоруба.
Школы разделили на мужские и женские. И моя школа № 149 стала женской. Пришлось в четвертый класс идти в другую – № 597 на Песчаной улице. Когда мама оформляла туда мои документы, я узнал, что в характеристике директор Бикшихинской школы написал обо мне как об одном из лучших учеников, и что он гордится мною. Это было неожиданно и приятно.
Начиная с четвертого класса, в советской школе предметы вели разные учителя. Классным руководителем был Василь Сергеевич (фамилию его я не запомнил) – учитель, эвакуированный из Белоруссии. Его жена тоже преподавала у нас ботанику и зоологию. Жили они прямо в школе – квартира располагалась на первом этаже с торца. Перед дверью в свою квартиру они вскопали небольшой огород, где выращивали картошку и другие овощи. Говорил Василь Сергеевич чисто по-русски, а вот его жена – с белорусским акцентом: «риба» и «грыбы». Преподавал Василь Сергеевич географию и историю. Помню, как однажды он сказал мне: «Ну что, Шапиро, я думал, ты – цаца, а ты, оказывается, ка-ка». Как-то я, рассказывая про субтропики, сказал: «Это там, где влажно и тепло», а он спросил: «Это в бане, что ли?» Вообще дядя, он был с юмором, мы его боялись и уважали.
Все мои одноклассники были на год старше меня, так как зимой 41–42 года они не учились. Мне не хотелось казаться младше, и я не придумал ничего лучшего, как заявить, что умею курить. Демонстрируя это умение, я постепенно втянулся и уже к концу 43 года был заправским курильщиком. Основная проблема была в том, как достать курево. Дедушка, который лет десять, как бросил курить, от всех переживаний, что выпали на его долю, снова начал покуривать и покупал себе все тот же «Беломорканал». Я наблатыкался отгибать край пачки и вытаскивать одну папиросу. Но уже в начале 44 года появилась новая возможность. Позади нашего дома начали строить многоэтажный генеральский дом. Работали там военнослужащие, которые по тем или иным причинам были освобождены от фронта. Вот им-то я и продавал за 2 рубля завтрак, который мне давала мама в школу. А за 2 рубля можно было на Песчаной улице, возле бани, купить стакан махорки. Его хватало мне на день, а иногда и на два.
Маме моей соседи докладывали, что видели меня с папиросой. Мама просила меня дыхнуть. Но ребята научили, как обмануть проверяющего. Надо не выдыхать воздух из легких, а вдыхать его. Несколько раз это проходило. Но иногда ей удавалось меня застукать. Тогда она начинала меня бить полотенцем. Я кричал не столько от боли, сколько от обиды.
В общем, я был не подарок. Но учился неплохо и много читал, играл в шахматы и довольно скоро стал обыгрывать всех своих одноклассников и соседей. Особенно после того, как в библиотеке мне попалась книга Нимцовича «Моя система». Из нее я узнал, что в шахматной партии есть три стадии – дебют, миттельшпиль и эндшпиль, каждая из которых имеет свои законы.
Из книг я прочел почти всего Диккенса, Жюль Верна и Марка Твена. Но самое большое впечатление произвела на меня книга «Герои и мученики науки», в которой рассказывалось о захватывающей, а часто и трагической судьбе многих выдающихся ученых. Возможно, именно тогда я впервые стал мечтать о том, чтобы стать ученым. Но, конечно, не мучеником, а героем. Тем более что кроме тех дисциплин в школе, где надо было соображать, все остальное мне давалось с трудом. Я хуже всех учился по военному делу. Особенно плохо у меня получалось с бросанием гранаты. Видимо, сказалось и то, что я был левшой, а бросать заставляли правой. Преподаватели военного дела часто менялись – ими становились вчерашние офицеры, которые были не пригодны к военной службе из-за контузии или потери руки. Но и в преподаватели они тоже не годились – все-таки мы были в таком возрасте, который именуется переломным, и держать нас в строгости нужно было уметь. Не всегда складывались отношения между собой. Почти каждый мальчик имел какое-нибудь прозвище. Меня, например, называли Вислоухий Осел, так как мои уши в те годы были несоразмерно большие, да к тому же торчали в сторону. Но, в общем-то, ко мне относились даже с некоторым уважением, особенно потому, что я с легкостью решал задачи, да и диктанты писал на хорошо. В числе реформ 1943 года было изменение с оценками. Если раньше они назывались «отлично», «хорошо» и т.д., то теперь появились числа – 5, 4, 3, 2 и 1 (кол).
Я помню, что в нашем классе ненадолго, где-то на полгода, появился мальчик по фамилии Ходакель. Помимо странной фамилии, он отличался от всех нас своей упитанностью. Его отец работал каким-то начальником отдела снабжения и поэтому мог кормить свое дитя весьма неплохо. Ребята прозвали его Жиртрест, Мясокомбинат. На переменках его прижимали к стенке и давили, пытаясь выдавить жир. Он кричал: «Дураки, что вы делаете?!» Я в этих «забавах» участия не принимал и «классовой ненависти» к нему не испытывал. Но и жалости особой он у меня не вызывал.
Коль скоро пошел разговор о еде, стоит сказать, что мы с дедушкой получали иждивенческие карточки, а мама – рабочую. По ней выдавали больше хлеба и других продуктов. Кроме этого, она была донором – ежемесячно сдавала кровь. За это ей полагались дополнительные карточки. Отоваривались эти карточки в особых магазинах. Ее магазин был на Комсомольской площади – площади трех вокзалов. Ездить за продуктами приходилось мне.
Летом 1943 года война была где-то далеко, в Москве она чувствовалась только по сводкам информбюро, голосу Левитана в черных тарелках репродукторов и многочасовой, без отдыха и выходных, работой мамы и таких же, как она, женщин. Опаздывать на работу было нельзя. Причем поломки транспорта и подобного рода уважительные причины не принимались в оправдание. Опоздавших судили, но весьма своеобразно – они оставались работать на своем же заводе, только им не разрешалось уезжать с завода домой – ночевали прямо в цеху.
Зимой 1943–1944 года маму, как передовую работницу, послали на курсы рабочих журналистов. Реформы 1943 года коснулись и этой сферы. Руководство партии (надо полагать, лично тов. Сталин) решило укрепить советскую интеллигенцию (которую Сталин называл «прослойкой») рабочими кадрами. В науке это привело к созданию «красной профессуры». Ну а в журналистике – появлению рабочих корреспондентов. Тогда же начался массовый прием рабочих, служащих и колхозников в партию. Так в начале 1944 года и моя мама, и мой папа, находясь за сотни километров друг от друга, были приняты в партию. Следует заметить, что для папы это было не очень-то безобидно. Дело в том, что немцы нещадно расстреливали военнопленных, если они были членами партии или комсомола. Впрочем, для папы моего это вряд ли многое меняло – его все равно бы немцы расстреляли, как еврея. Курсы, на которые направили маму, находились гораздо ближе к нашему дому, чем завод – на Первой Тверской – Ямской улице недалеко от сада «Эрмитаж». И режим учебы был значительно легче, чем работа на заводе. Но самое главное – ей оставили рабочие карточки, что было в то время весьма существенно.
Недалеко от нашего дома располагался Ленинградский парк культуры и отдыха, в котором был кинотеатр. Там показывали в основном довоенные фильмы, но перед началом шел кинообзор под названием «Новости дня». Что мне запомнилось из этой хроники, так это, как вешали изменников Родины на освобожденных территориях. Они стояли в кузове грузовика, на них надевали петлю, и грузовик трогался.
В новогодние каникулы я впервые был на елке в Колонном зале Дома Союзов. Билеты туда, насколько мне помнится, достала мамина сестра Ида, а привела меня мама. В зале стояла большая, украшенная елка, возле которой веселилась детвора с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще был концерт, на котором выступил режиссер Гусев и сказал, что снимает фильм «В шесть часов вечера после войны». Исполнили несколько песен из этого фильма. Фильм действительно вышел в 1944 году, и никто из жителей Советского Союза уже не сомневался, что победа будет за нами.
Большую роль в создании атмосферы победы сыграл голос Левитана, из репродуктора зачитывавшего приказы Верховного главнокомандующего об освобождении очередных городов.
Много лет спустя, в конце 70-х – начале 80-х годов, отдыхая в Сочи, я вместе с женой однажды встретил Юрия Левитана – он прогуливался по той же пешеходной аллее, что и мы. Я был поражен тем, что он небольшого роста, достаточно тщедушный человек. Зато какой у него был голос! Баритональный бас, слегка дрожащий, как у всякого взволнованного человека. Недаром Гитлер объявил его врагом рейха номер один и велел повесить сразу же после взятия Москвы.
Экзамены я сдавал легко, без подготовки. И в четвертом классе, и в пятом, и в шестом. Правда, в шестом классе у меня произошла осечка по литературе: я напрочь забыл все басни Крылова и получил тройку. С тех пор начал к экзаменам готовиться. Но все равно никакого нервного напряжения ни в школе, ни в вузе они у меня не вызывали.
Из событий лета 1944 года мне больше всего запомнился «парад» военнопленных немцев по Москве. Сам «парад» я не видел, зато видел, проезжая на трамвае мимо ипподрома на Беговой улице, как их несколько дней там собирали и выстраивали. А о самом шествии мне рассказала мама. Немцев специально вели не по главным улицам Москвы, а по примыкающим к ним переулкам. Мама и другие москвичи стояли на тротуарах и в основном молча наблюдали за этим шествием. Но в этом молчании было столько чувств, столько крика, что хватило бы на всю жизнь. И боль за прерванную мирную жизнь, и за ужас бомбежек, и за горечь поражений в 1941–1942 годах, и за гибель самых дорогих людей. Надо отдать должное Сталину – по части воздействия на эмоции толпы он был гений. К тому же в данном случае на его стороне была справедливость.
1 сентября 44-го года вместо начала занятий пятые и шестые классы 597-й школы отправили в совхоз города Солнечногорска под Москвой. Я впервые побывал в районах, которые находились под немецкой оккупацией. Их остановили непосредственно перед Химками. А дальше – Крюково, Фирсановка, Поваровка и сам Солнечногорск хоть недолго, но побывали под немцами. Нас поселили в сельском клубе. Это был огромный, слегка утепленный сарай. Спать мы легли прямо на полу на матерчатые одеяла, которые нам велели вместе с другими вещами взять с собой. Чтобы было теплее, мы ложились по двое – одно одеяло клали под себя, а другое на себя. В первую же ночь произошел один весьма неприятный инцидент. Учительница, которой поручили руководить нами, оказалась неважным педагогом. Она нервничала, кричала на нас. И ночью ребята решили ей отомстить. Поскольку в клубе было темно, а она улеглась спать вместе с нами, кто-то громко ругнул ее. Она испуганно не откликнулась. Тогда осмелевшие хулиганы стали громко посылать ее нецензурными словами. Разбушевавшись, они выскочили на сцену и начали отплясывать. Там стояла печка-буржуйка, которая топилась. Свет от этой печки падал на стенки клуба, и тени безобразно отплясывающих хулиганов тоже прыгали по стене. Учительница окончательно струсила и убежала из клуба.
Вместо нее назавтра приехала наша будущая преподавательница математики Антонина Алексеевна. И хотя она ни разу не подняла ни на кого из нас голоса и чаще всего употребляла уменьшительные и ласкательные суффиксы, все мигом присмирели. За всем этим чувствовалась такая сила, такая твердость, что никому не приходило в голову с ней связываться. Именно тогда я впервые понял, что такое педагогический дар. Сейчас я уверен, что этот дар – от природы, от генов. И его надо проверять при поступлении в педагогические вузы.
Антонина Алексеевна, или Антонинушка, как ее прозвали ученики, была педагогом от Бога, каких я, к счастью, много встречал в своей жизни. Сначала нам в совхозе поручили собирать горох. Норма была, кажется, 15 ведер за трудодень. Но в первые два дня мы собирали по 7-8 ведер, так как большую часть гороха съедали. Но на третий день он нам осточертел, и мы стали укладываться в норму. Потом мы собирали картошку, морковь, капусту. Почти каждый заработал за 25 дней сентября не меньше 30 трудодней. В отличие от Бикшихинского колхоза, здесь трудодни оплачивались более-менее нормально – каждый из нас заработал не меньше 80 кг овощей.
В конце октября неожиданно в Москву приехал папа. Война кончалась, и начальство закрыло курсы по обучению понтонщиков, где он последние месяцы служил. Он был в чине старшего сержанта, поэтому ему приходилось отдавать честь почти всем попадавшимся навстречу военнослужащим – в основном это были офицеры. Но главное было не в этом, а в чувстве радости от встречи с ним после трехлетней разлуки.
Все учителя в пятом классе у нас поменялись. Классным руководителем стала Елизавета Яковлевна Шумаева, историк. Она тоже была преподавателем от бога. Мы на ее уроках иногда засиживались допоздна. Она умудрялась рассказывать нам исторические факты не с точки зрения развития классовой борьбы, как писалось в учебниках, а с точки зрения человеческих взаимоотношений – любви, дружбы, ненависти, зависти, амбиций. Ее коронным приемом было, отвернувшись от класса к доске или к окну, говорить: «Шапиро, перестаньте вертеться» или «Смирнов, что вы там потеряли под партой?» Складывалось впечатление, что у нее есть глаза на затылке.
Геометрия мне особенно понравилась, я стал придумывать новые доказательства, не такие, как в учебнике. Антонинушка меня всячески поощряла. Я думаю, именно ей я обязан появлением у меня математических способностей и участием в олимпиадах.
Резким контрастом в целом неплохому составу моих учителей до седьмого класса была преподавательница русского языка и литературы Александра Сергеевна Соломатина. Она хромала, и прозвали ее «хромоногий Гефест». Меня она невзлюбила, как считали мои товарищи-одноклассники, в первую очередь, за еврейское происхождение, хотя, естественно, она этого никогда не выражала вслух. Тем более что вдобавок ко всему она была секретарем партийного бюро школы. Отметки она мне ставила четверки и пятерки, но с очень большой неохотой. Поскольку она была и глуховата, ей мерещилось, что именно я подсказываю отвечающему, и она меня ругала, хотя подсказывал кто-то другой. Бегала к директору школы или завучу, жаловалась, что я ее обзываю, хотя я никогда этого не делал. Но главные события, связанные с ней, разыгрались в седьмом классе, но об этом позже.
В 1944–1945 гг. появились трофейные фильмы. Из них мне запомнились «Девушка моей мечты», «Багдадский вор» и серия о выдающихся деятелях искусства – Гайдне, Шумане и других. Но особенно меня поразил американский фильм «Красная клюква» – по имени колхоза, который попал в зону оккупации немцев. Этот фильм не был трофейный, а был то ли подарен, то ли куплен у союзника. Такого натуралистического показа зверств фашистов в наших фильмах о войне, даже документальных, не было. Чего стоит только эпизод, как немцы выкачивали кровь у мальчиков и девочек для своих раненых, и они тут же, на операционном столе, умирали. Или пытки партизан.
Примерно в это время у меня родилась мысль, что надо закалять свою волю, чтобы выдерживать пытки. Закалял я свою волю весьма примитивно, но эффективно. Моясь в бане (а ходил я туда каждую неделю), наливал в таз горячую воду, почти до кипятка, ставил в него ноги и терпел. Это закаливание воли не прошло даром, а позволило мне в дальнейшем преодолевать, сжав зубы, все свалившиеся на мою долю напасти.
В ночь с 8 на 9 мая никто не спал. Назавтра мы с мамой пошли пешком от Сокола до Красной площади – сначала по Ленинградскому шоссе, потом по улице Горького. В небо поднялись аэростаты с огромным портретом Сталина и красным знаменем. Меня удивил в этот день приказ вождя о салюте в честь освобождения Праги. Хотя война уже кончилась, часть немецких войск продолжала сопротивляться. Впрочем, позже я узнал, что на самом деле Прагу сначала освободили от немцев власовцы, видимо, надеясь таким образом на прощение за измену, а 9 мая советские войска вошли в Прагу, чтобы арестовать власовское воинство.
На Красную площадь мы успели как раз к салюту в честь Победы. Она была забита народом. И даже чтобы уехать оттуда на метро, пришлось двигаться в плотной толпе.
Летом 1945 года я впервые после войны поехал в пионерский лагерь в дачный поселок Быково. Там я считался пионером, хотя так до сих пор и не знаю, вступал ли я в ряды… Готовились – да, и мама где-то достала кусок красной материи и сделала из нее галстук, но торжественной линейки с клятвой так и не было.
Я был назначен председателем совета отряда, и это была мучительная должность: я должен был отдавать председателю совета дружины рапорт по определенному трафарету. Я смущался и путался в словах.
Честно говоря, пребывание в лагере было довольно скучным. Подъем, зарядка, линейка, завтрак, прогулки по лесу строем, обед, мертвый час, спортивные игры, ужин, линейка, сон. И все это по горну.
Контингент «пионеров» был весьма своеобразный. Основной костяк составляли так называемые орионовские огольцы. Большинство детей работников и работниц электрозавода жили в районе Преображенской площади и примыкающей к ней набережной реки Яузы. Как раз на полпути от Преображенской площади до моста через Яузу находился кинотеатр «Орион». В районе этого кинотеатра и тусовались ребята моего возраста, многие из которых были обыкновенные карманные воришки. Они преподали мне основные уроки воровской морали, которая была главной во взаимоотношениях в лагере. Страх перед ними перемежался с ненавистью. Но тогда я воспринимал только ненависть, и это еще более отдаляло меня, по крайней мере, в душе от этих огольцов. И хотя внешне я старался быть с ними в хороших отношениях, внутренне они были мне не симпатичны. Помимо блатных норм поведения, я усваивал от них и первые сексуальные уроки. Методом от противного, почему-то решил, что сексом занимаются нехорошие мужчины и женщины, а настоящие люди обоих полов только любят друг друга.
И еще, с чем они меня познакомили, – с блатными песнями. Они мне очень нравились, особенно мелодией:
Гоп со смыком песня интересна,
123 куплета всем известны,
Пропою я вам такую
Песню новую, блатную,
Как живут в Одессе уркаганы…
Все эти сто двадцать три куплета я услышал гораздо позже, когда уже был студентом, – в пансионате МЭИ, расположенном на станции Фирсановка Ленинградской железной дороги. В пионерском же лагере распевали лишь самые скабрезные:
Машка была так здорова,
Что ревела как корова…
Там я впервые услышал и выучил «Мурку», «В нашу гавань заходили корабли», «А море черное ревело и стонало», «Меня засосала глубокая трясина», «С одесского кичмана» и множество других.
В пионерском лагере я более детально изучил нецензурщину. Все эти матерные слова изначально были придуманы для того, чтобы оскорбить либо собеседника, либо кого-то еще. В основном женщину. Поэтому мне непонятна дискуссия – употреблять ли нецензурные слова в литературных произведениях и в статьях. Конечно, нет, ведь каждое это слово кого-то оскорбляет и мусорит речь.
Далеко не все эти «уроки» я воспринимал как руководство к действию, напротив, многое из того, что «преподавали» мои сверстники, мне не нравилось, и я не собирался это выполнять. Гораздо больше меня занимали нравственные истины, постигаемые из книг. И вообще в душе я был правильный мальчик. Верил в то, что живу в самой справедливой стране. Ну а то, что мы жили бедно, так это было понятно – сначала Гражданская война, а затем Великая Отечественная.
И еще одна важная мысль, которая связана со знакомством с орионовскими огольцами. Со стороны их, как и товарищей по школе, никакого антисемитизма не испытывал. Ни разу ни в пионерском лагере, ни в школе никто из сверстников не обращал внимания на мою национальность.
Примерно через месяц после окончания войны с Японией наконец-то объявили демобилизацию. Проводили ее в несколько этапов. Папа попал во второй этап и вернулся в конце октября. Вошел в комнату в военной форме с рюкзаком на спине – вечером, так что мы все были дома. Сказал: «Здравствуйте, я пришел» – и стал снимать рюкзак. На фронте папа не был ранен, но навсегда подорвал свое сердце и заработал малярию. Я тоже каким-то образом заразился малярией и проболел ею в 1946 и 1947 годах. А потом она почему-то прошла бесследно. Как и у папы. Заболевание это было своеобразным отголоском войны.
В шестом классе математические способности принесли мне материальную пользу. Меня послали на районную олимпиаду, я там занял первое место, и меня наградили ордером на зимнее пальто. Оно было весьма кстати, так как иначе достать его было практически невозможно.
В шестом классе мне предложил дружить Юра Далевский, мальчик из нашего класса. По окончании седьмого класса Елизавета Яковлевна Шумаева написала в его характеристике: «Из зажиточной интеллигентной семьи», а в моей – «Из трудовой интеллигентной семьи». Это очень возмутило Юру – он считал (кстати, правильно), что его семья тоже трудовая, хотя действительно жил он более комфортно. Его дом был каменный, многоэтажный, квартира была коммунальной, но двухкомнатной, всего с одними соседями, с кухней, ванной и туалетом. Отец работал инженером на заводе «Изолятор».
Юра по натуре был чистый гуманитарий, а точнее – артист. Родители это понимали, ему купили новый немецкий баян, наняли учителя, который с ним занимался. Точные науки – математика, физика, химия – давались ему с большим трудом. В этом смысле мы с ним были полной противоположностью.
Мы с ним начали готовить домашние уроки вместе, а заодно и готовиться к экзаменам. Для меня это было очень полезно: я приучался к систематической работе. До этого я обычно мало занимался дома, надеясь на свою память и сообразительность. Как правило, мне приходилось объяснять Юре решение задач по алгебре, геометрии, физике, химии. В результате осваивал чужой способ мышления и старался объяснить так, чтобы ему было понятно.
Правда, один раз у нас с ним произошел неприятный инцидент. Обычно мы готовились к урокам один день у меня, другой – у него дома. Но тут, видимо, по совету своей мамы, он предложил мне все время готовиться у него, так как условия его комнаты были гораздо удобнее. Но это обидело меня. И ему пришлось смириться и ходить ко мне, как и раньше.
Юра научил меня кататься на велосипеде. Он же увлек меня в Дом пионеров в театральный кружок. Меня он не очень-то интересовал, но дружба была превыше всего. Репетировали мы, по-моему, «Ревизора». Руководил кружком артист МХАТа, его фамилию и имя забыл. Однажды даже он меня похвалил, а Юру раскритиковал. Но, думаю, это было несправедливо – у Юры явно были артистические способности.
В конце 1946 года, когда мы учились в седьмом классе, я впервые стал жертвой антисемитизма. Дело в том, что большинству моих одноклассников, так же, как и мне, исполнилось 14 лет, и мы подали заявления о вступлении в комсомол. На заседании комитета ВЛКСМ школы всех приняли, а против меня выступила преподавательница русского языка и литературы Соломатина, которая меня невзлюбила давно, еще с пятого класса.
У нас в классе, кроме меня, училось еще несколько евреев – Юра Далевский, Эмиль Кодыш и кто-то еще. Их Соломатина тоже недолюбливала, но меня просто ненавидела. Может быть, оттого, что другие преподаватели отзывались обо мне хорошо. Особенно математичка.
Так вот, на том заседании комитета комсомола она яростно стала настаивать на том, что я «не созрел». Члены комитета ее не послушались и проголосовали «за». Перед комсомольским собранием, на котором должны были утвердить решение комитета, меня вызвала к себе директор школы и вместе с завучем потребовала, чтобы я забрал свое заявление. Их аргументы четче всего формулировались фразой: «Вы, Шапиро, приоткрыли себе маленькую щелочку, чтобы проникнуть в комсомол, но мы станем грудью и не допустим, чтобы вы проникли в эту щель. Мы хотим, чтобы вы вошли в состав этой организации через широко распахнутую дверь». Я помню, что эта фраза заставила меня обратить внимание на их груди. Они действительно были необъятными, и мне не оставалось ничего другого, как забрать свое заявление. Для того чтобы проникнуть в комсомол через открытую дверь, мне предложили стать вожатым в четвертом классе. Это была их ошибка, потому что я активно включился в работу – водил ребят в кино, театры, устраивал соревнования. Их классная руководительница даже доверяла мне принимать у ребят выполнение домашних заданий.
В апреле 1947 года ни на заседание комитета комсомола, ни на комсомольское собрание Соломатина не пришла, и я спокойно стал членом ВЛКСМ. После этой истории я понял, что ничего в жизни не удастся достигнуть с первого раза в отличие от остальных моих сверстников. В течение всей моей жизни это оправдывалось. Но научило меня и другому – никогда не опускать руки при первой же неудаче. И при второй, и третьей… Что мне и приходилось делать всю мою жизнь. Причем большинство моих неудач происходило не потому, что я делал что-то не так, а возникали внешние причины, весьма далекие от провозглашаемых норм морали и права. Среди них, пожалуй, главной причиной был антисемитизм, причем, не бытовой, а государственный, который расцвел пышным цветом после войны.
Впрочем, об этом я, как и большинство граждан страны, в 1946–1947 годах не знал и в комсомол вступал не столько по необходимости, сколько по убеждению.
Седьмой класс интересен еще и тем, что впервые возникла тяга к знакомству и вообще созданию отношений с девушками. Разделение школ, произведенное в 1943 году, на женские и мужские сыграло, на мой взгляд, весьма негативную роль в половом воспитании. Девочки для нас стали космическими пришельцами. Но что у нас и девочек было одинаковым, так это интерес к противоположному полу. Единственная площадка, где мы могли общаться и заводить знакомства, кроме дворов, конечно, это школьные вечера. Они привнесли в нашу жизнь еще один важный аспект: надо было учиться танцевать. И здесь высшая власть в стране внесла свою лепту. Танго, фокстрот, чарльстон были официально запрещены как буржуазные. Разрешалось танцевать польку, краковяк, падеспань, вальс, вальс-бостон и мазурку. Почему это были не буржуазные танцы – непонятно.
Впрочем, преподаватели танцев, а это были весьма интеллигентные дамы с явно аристократической речью и повадками, нашли выход из этого нелепого положения. Они стали называть танго «медленным танцем», а фокстрот – «быстрым».
На первом же вечере я пригласил на медленный танец девушку, которая мне понравилась внешне. Когда мы начали с ней танцевать, я случайно нащупал на ее спине пуговицу под платьем. Ниже было еще две пуговицы. Когда до меня дошло, от чего эти пуговицы, я страшно покраснел. Украдкой посмотрел на свою партнершу. Она танцевала как ни в чем не бывало. Это меня немножко успокоило, я успешно дотанцевал, но заговорить с ней не решился.
Знакомство происходило на вечере и с помощью так называемой почты. Каждому участнику прицеплялся на видном месте номер, и добровольные «почтальоны» доставляли наши письма девушкам.
С моим первым таким письмом вышла незадача – девушка долго не отвечала. Тогда вмешался Юра Далевский и напрямую спросил ее, почему она не отвечает. Та с невероятным простодушием сказала, что она получила очень много писем и просто не успевает на все ответить.
Однажды после вечера в нашей школе, когда мы с Юрой возвращались домой, нас догнали две девочки и сказали, что в их школе в следующую субботу состоится вечер. Но директриса запретила приглашать на вечер мальчишек. Но они придумали, как обойти этот запрет. Когда закончится официальная часть и все учителя уйдут, останутся только в качестве начальства уборщица и девочки-активистки, тогда-то можно будет через окно в туалете первого этажа впустить на вечер мальчишек.
Так через окно туалета мы оказались в спортивном зале, где и играла музыка. Ясно, что радости не было предела. Кроме обычных учениц, привычных нам и своими нарядами, и своим поведением, появилась та, которую в наше время называют светской львицей. Она отличалась от остальных девушек не только своим одеянием, но и тем, как она держалась – высокомерно, оглядывая окружающих свысока. На этом же вечере, почти одновременно с ней, появилась компания «золотой молодежи» – ребята, почти наши сверстники, видимо, дети генералов и других высокопоставленных родителей. Когда один из моих одноклассников, Леня Курбатов, решил пригласить Нонну Московскую (так звали «светскую львицу») на танец, к нему подошел один из компании золотой молодежи и в весьма вызывающей манере позвал его в туалет.
Из туалета Курбатов вышел с разбитым носом. Вслед за ним компания избила еще несколько парней. Не знаю почему, но с ней захотел потанцевать Владик Сакун – это уже из нашей компании. Через короткое время, пока он начал танцевать, он вдруг бросает Нонну и идет к нам:
– Меня сейчас будут бить…
Не успели мы сообразить что делать, как к Владику подвалил один из хмырей:
– Ну что ж ты не идешь в туалет?
Владик со свойственным ему юмором:
– Мне еще не надо…
Видимо сообразив, что он не один, хмырь сменил тон:
– Больше с ней не танцуй…
Всех выпускников 597-й школы определили в 8 «б» класс. Правда, поскольку нас не хватало до полной численности, добавили нескольких ребят из самой 150-й школы. Это были дети весьма высокооплачиваемых интеллигентов, живших в многоэтажных домах, расположенных рядом со школой. Да и среди учеников 597-й школы были дети родителей, живших в поселке «Сокол», где поселили элиту Союза художников.
Так что класс сформировался более интеллектуальный, чем те, в которых я учился ранее. Да и учителя подобрались прекрасные – физик Юрий Павлович Европин, математик Иван Васильевич Харитонов, литераторша Нина Петровна Унаньянц. Иван Васильевич к тому же был нашим классным руководителем. Школой руководила Галина Александровна Моисеева – хотя и строгий, но весьма образованный педагог. Именно в этой школе я приобрел навыки лидера, сначала класса, а потом, уже в 10-м классе, – всей школы, стал секретарем комитета комсомола.
В эти же годы я продолжал воспитывать в себе волю. Стал делать ежеутренне зарядку, после которой обливался холодной водой. Обливала меня холодной водой из кружки мама на крыльце. А зимой я начал обтираться снегом. Стал учиться кататься на лыжах, позже, уже в девятом классе, – на коньках.
У нас в школе открылся математический кружок, который вели студенты физмата МГУ. В кружке я понял, что те задачи, которые мы проходили по школьному учебнику, – семечки. Тут приходилось решать гораздо более сложные задачи, и это мне очень нравилось.
Вообще в нашем классе были весьма сильные математики – Боря Боровиков и Юрка Жилин. Когда в конце восьмого класса мы приняли участие в олимпиаде по математике в МГУ (главная олимпиада в СССР), Боровиков, решив все пять задач, занял первое место, Жилин – второе, а я, решив 4 задачи, третье место.
Конец восьмого класса запомнился мне тем, что я бросил курить.
Летом 1948 года по заданию Нины Петровны Унаньянц я прочел основные произведения русской литературы XIX века: Гоголя «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», Гончарова «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история», Тургенева «Отцы и дети», «Накануне», «Ася», «Записки охотника» и другие, Толстого «Война и мир», «Воскресенье», «Анна Каренина», «Севастопольские рассказы и его пьесы, Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и др., Салтыкова-Щедрина «История города Глупова». Достоевского тогда в школе проходили бегло, поэтому я его романы прочел гораздо позже, уже в институте. Тогда же, летом, по инициативе Юры Далевского, я начал читать французскую литературу – Оноре де Бальзака «Человеческая комедия», Стендаля «Красное и черное», «Пармская обитель», рассказы Мопассана, пьесы Мольера. Уже позже, летом 1949 года, в десятом классе я начал знакомиться с английской и американской литературой.
Увлекся я литературой по математике и по физике. Особенно меня заинтересовала книга «Что такое математика» Куранта и «Эволюция физики» Энштейна и Инфельда. Из этих книг я почерпнул знания по интегральному и дифференциальному исчислению, по топологии, основам теории чисел, теории относительности. В общем, всему тому, что в школе в то время не проходили. И сказать, что больше всего мне нравилось – математика или физика, я не могу до сих пор. Математика увлекала чистой логикой, без привязки к каким-либо объектам или событиям в реальности, а физика – тоже логикой и в то же время связью с объектами и событиями в реальном мире. Но обе вместе – возможностями придумывать что-то новое, необычное.
В девятом классе я впервые влюбился. В школьницу из соседней школы Галю Метлину. Весьма симпатичная, она явно была лидером в своем классе и даже в школе. Позже я узнал, что она тоже секретарь комитета комсомола школы. Судя по всему, я Гале тоже нравился, и она была не против со мной подружиться. На одном из вечеров мы с ней танцевали, и она предложила:
– Давайте, перейдем на «ты».
Я, естественно, тут же согласился, и моя нервная система сразу перешла от глупой застенчивости к неслыханной радости.
После окончания вечера я с Юрой Далевским шли домой сразу за тремя подружками, в числе которых была Галя. Я предложил Юре подойти к девушкам, которые всего в двух метрах впереди нас, но Юра остановил меня:
– А что ты им скажешь, с чего начнешь разговор?
Еще один раз я оказался с Галей лицом к лицу в метро. Кажется, я учился уже в десятом классе. У меня появилась стопроцентная возможность начать разговор и наконец-то наладить дружеские отношения. Но меня в момент сковала какая-то дикая робость. Так я и простоял, не проронив ни слова, до станции «Динамо». Наконец Галя, поняв, что от меня ждать инициативы нечего, сама обратилась ко мне:
– Семен, вышел замечательный учебник по английскому в двух томах. В нем все правила сформулированы на английском и русском языках. Не поможешь достать его?
Я с радостью согласился.
Уже на следующий день пошел вручать ей эти два тома. Она с удивлением посмотрела на меня. Что означало это удивление – я не понял. Скорее всего – почему опять не воспользовался моментом и не стал налаживать более близкие отношения. Например, пригласить ее в кино. В общем, моя влюбленность далее протекала заочно и постепенно угасла.
Девятые-десятые классы запомнились мне еще и тем, что меня избрали секретарем комитета комсомола школы. Впрочем, и здесь не обошлось без приключений. Сейчас принято считать, что секретарями комитетов ВЛКСМ становились отпетые карьеристы. Но тогда это было не так. Чтобы стать секретарем, надо было завоевать авторитет у учеников старших классов. Из своих достижений на этом посту мне запомнились три эпизода.
Первый из них связан с новогодними вечерами. Ко мне, как секретарю комитета комсомола школы, обратилась директриса Дома офицеров, который располагался недалеко от школы на Красноармейской улице. Зрительный зал был уставлен рядами стульев, привинченных к полу. Для того чтобы провести новогодний вечер, надо было отвинтить стулья и таким образом расчистить зал для танцев. Она попросила выделить для этого ребят, а взамен обещала в один из вечеров отдать этот Дом в наше распоряжение. Я, естественно, согласился и организовал работу по очистке зала от стульев. Ребята, узнав, с какой целью все это делается, с энтузиазмом после занятий шли убирать стулья.
Директриса даже удивилась, как хорошо они работали. При этом я там фактически не присутствовал – никакого начальственного надсмотра не требовалось. Вечер наш прошел тогда на славу.
Вторым эпизодом была комсомольская конференция Ленинградского райкома Москвы. Такой радостной, живой, одухотворенной и в то же время весьма верноподданнической я до этого не видел. Отовсюду звучали бравурные комсомольские песни: «Нам ли стоять на месте, в своих желаниях всегда мы правы…», «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…» и много других.
В конце выступил секретарь райкома партии Румянцев. Его речь была весьма скучной. Судьба этого парня оказалась печальной. Сначала, буквально спустя пару месяцев, его назначили первым секретарем горкома партии, затем, не прошло и месяца, – секретарем ЦК КПСС, а еще через месяц – расстреляли как врага народа.
Третий: нам в комсомольскую организацию пришло закрытое (т.е. секретное) письмо ЦК партии, где говорилось о всех его прегрешениях, первым из которых была непомерная амбициозность, желание встать над партией и т.д. В этом же письме рекомендовалось провести комсомольские собрания на местах. Естественно, доклад в школе должен был сделать я. Поскольку никаких дополнительных указаний не было дано, я решил свой доклад посвятить не столько осуждению товарища Румянцева, сколько тем недостаткам, которые были в наших организациях. Поскольку наша школа считалась передовой в районе, были приглашены директора и завучи других школ района.
Доклад получился нестандартный и был высоко оценен директорами других школ. Единственное их замечание относилось к тому, что у меня не были пострижены ногти на руках…
Конец десятого класса означал начало нового этапа – поступление в вуз. Начал этот этап Юра. Он хотел попасть в театральный – профессия артиста соответствовала его способностям, он владел искусством перевоплощения и подражания.
Он пошел на прослушивание в художественную студию МХАТа. Я тоже был там, но в помещение, где сидела комиссия, никого, кроме соискателя, не пускали. Юра выбрал монолог Скупого рыцаря. Думаю, что он волновался, и у него получилось совсем не так, как на школьном Новогоднем вечере. Но главное, что не понравилось комиссии, его тихий голос. Из-за этого и забраковали Юру. Он тут же решил, что больше пробовать не будет, хотя еще были Щепкинское, Щукинское училища, ГИТИС. Тогда я обнаружил у своего друга одно, мне кажется, не лучшее качество – сдаваться при первой же неудаче.
В результате он подал документы на поступление в МЭИ, на электромеханический факультет. Здесь он мог надеяться на протекцию, которую обеспечивал его отец, занимавший, как кандидат наук, весьма влиятельную должность на заводе «Изолятор». А я, начиная с экзаменов за 10 класс, столкнулся лично с государственным антисемитизмом в СССР. Если до этого этот антисемитизм просачивался в мое сознание косвенно – через череду газетных статей о космополитах, не помнящих родства, увольнения мамы из многотиражки электрозавода без указания причин, то здесь меч ударил непосредственно по мне.
Да, вспомнил, однажды мама вернулась после ночной смены бледная и испуганная: ночью арестовали всю техническую верхушку автозавода. Лихачев, директор автозавода, всю войну и позже подбирал начальников всех служб завода по их деловым качествам, не обращая внимания на национальность, возраст, пол и другие, не относящиеся к работе качества. В результате на многих должностях оказались лица реакционной (по мнению вышедшей спустя 40 лет статьи в «Правде» правоверной коммунистки Нины Андреевой) национальности. Среди них был зам. главного инженера Коган. А моя мама, выходя замуж, оставила девичью фамилию – тоже Коган. Вследствие этого один из оперативников стал интересоваться у нее, не родственница ли она врага народа Когана.
В школе я все экзамены сдал на 5. Но письменные работы по математике и литературе отправлялись на контроль в районо. А там решили, что рисунок в моей работе по математике, где была задача по геометрии, сделан некрасиво, и поэтому снизили мне оценку по письменной математике до 4. В результате я получил не золотую, а серебряную медаль. Мой классный руководитель, математик Иван Васильевич Харитонов специально приехал к нам домой, чтобы извиниться перед моими родителями за это и сказать, что школа тут ни при чем, и дал понять, чем это было вызвано.
Вскоре после выпускного вечера меня с Юрой и несколькими другими одноклассниками пригласил к себе домой физик Юрий Павлович Европин. Основная его задача заключалась в том, чтобы предостеречь меня от необдуманной подачи заявления на физфак МГУ. Он мне сразу сказал, что меня туда не примут, потому что я – еврей. Он, конечно, попытался объяснить это тем, что ряд людей этой национальности нанесли вред государству и тем самым подорвали авторитет евреев. Я думаю, что этот довод был Юрием Павловичем придуман, чтобы как-то оправдать всю эту нелепицу. Сам он был человеком честным и порядочным. Тем не менее он добавил, что я, конечно, могу попробовать поступить на физфак и он готов дать мне от своего имени характеристику, которую я смогу сдать в приемную комиссию МГУ. Что я, собственно, и сделал. Медалистов в МГУ, как и в ряд других ведущих вузов Москвы, принимали без экзаменов, но с собеседованием в специальной комиссии. Именно она-то и отсеивала абитуриентов неправильной национальности. Когда я пришел на собеседование, там была очередь из таких же, как я: большинство поступавших были евреи. Все из них, кто пришел раньше меня, тут же были исключены из списка принятых. Я был настроен решительно – пусть меня тоже вычеркнут, но не по знаниям. И действительно, мне пришлось вступить в спор с профессорами и доцентами. Когда я выходил, мне сказали, чтобы я зашел в приемную комиссию через два дня. Однако через два дня решение так и не было принято, и я решил искать альтернативные варианты. Поехал в МЭИ – туда мне порекомендовал поступать Юрий Павлович Европин. Во главе этого вуза стояла жена Маленкова, в то время председателя Совета Министров СССР, и она, в отличие от других ректоров московских вузов, не очень-то боялась нарушить негласные указания насчет евреев. Тем более что после войны энергетика была в числе ведущих отраслей народного хозяйства, которые по приказу Сталина развивались в первую очередь.
В приемной комиссии меня огорошили – документы от медалистов с освобождением от экзаменов уже не принимаются. Пришлось сдавать. По всем получил 5.
Поступление в МЭИ – первая моя победа над государственным антисемитизмом. Конечно, не полная – я не сумел попасть на физфак МГУ, но все-таки поступил в один из престижнейших вузов страны.

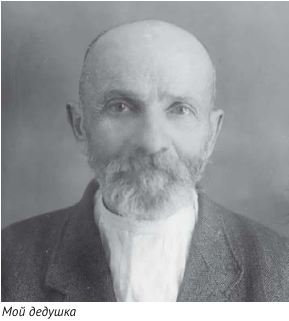
Опубликовано в Бельские просторы №8, 2019






