«Что слава? – Яркая заплата на ветхом рубище певца», – с романтической иронией заметил Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом». И продолжил без обиняков: «Нам нужно злата, злата, злата: Копите злато до конца».
Нам ли не знать своих собратьев по перу? Знаем, как самих себя.
Самолюбивые, эгоцентричные и, конечно, талантливые до самой последней степени, после которой начинается гениальность, при любом упоминании о Швеции они первым делом вспоминают о Нобелевской премии, которая им пока не светит, но… кто знает? Может быть, когда-нибудь их ожидает почёт, золотая медаль и чек на миллион?
Никаких «но», господа, никаких «но»! Максимум, что вам светит, это 1 (прописью один) рубль, бутылка водки да яблоко на закуску.
Такова монетарная составляющая премии имени Андрея Белого, который, конечно, и водке бывал не чужд, и с Любашей Менделеевой знался накоротке, но зато был гениален в прозе, не говоря уж о стихах.
Спасибо и на том, что в бутылке не самогон, но всё-таки почему именно водка? Этот слишком уж простонародный напиток не очень-то шёл к лицу такому дивному поэту, которому Мандельштам посвятил великолепную отходную песнь. Я бы лучше назвал эту премию именем её основателя Бориса Ивановича Иванова, патриарха ленинградского самиздата.
И всё-таки такая нарочито грошовая награда была хоть чем-то, хоть какой-то отметиной для отверженных поэтов и литераторов. В глухомань безвестности их ввергло собственное упрямство, их непокорное противостояние официозу. Именитые и при этом сервильные члены СП (союз писателей), вполне себе середняки в художественном отношении, купались в привилегиях, наиболее заслуженные получали свои сталинско-ленинские звёзды на грудь и прилагаемые к ним квартиры и дачи, а те другие, такие-сякие непечатные таланты и гении, с именем Андрея Белого в груди и бутылкой водки в руке влачили нищенское существование, но зато гордились свободой и своим особым ореолом непризнанности, который бывал дороже казённых премий.
И в самом деле, – когда, с переменами в стране, этот наоборотный престиж стал ещё более дорожать, премию заметил и очень умно прибрал себе к рукам Неопознаный Летающий Объект, то бишь одно московское издательство, которое обеспечило своих лауреатов реальным преимуществом: оно публиковало их книги! Но денежная составляющая премии оставалась прежней.
Каких только премий тогда не появилось в литературном пространстве, и многие из них с солидным золотым довеском – долларовым и рублёвым! Русский Букер и Антибукер, Триумф, Дебют, Поэт, Северная Пальмира, Золотой Дельвиг… Одних Пушкинских было не менее трёх: государственная, немецкая (Альфреда Топфлера), английская (XXI век) и без счёту иных – региональных, журнальных и разовых… Блеск иллюзорного золота пестрил в глазах изголодавшихся литераторов, в погоне за ним они сбивались с ног, тусовались, толпясь на халявах и фуршетах, запутывались в интригах, ради которых они забрасывали пылиться свои неоконченные рукописи… Казалось, этого хватит на всех, но разве такое возможно? Началась жёсткая конкурентная борьба, арбитры и другие члены жюри получили власть губить и миловать, возникли сложные схемы. Действовали и попростому. Один такой арбитр и блюститель порядочности выдал Пальмиру разом двум своим родственникам, а Юз Алешковский вдруг получил немецкого Пушкина, – вероятно, по той лишь причине, что премии Ивана Баркова не существовало. Пробивные и ушлые нахапывали чего побольше. Листаю воспоминания о нашей поездке (вместе с моей драгоценной) в возбуждённую премиальной лихорадкой Москву.
Вот мы с Галей заходим в редакцию «Знамени», – там у меня напечатана рецензия на книгу Анатолия Наймана «Львы и гимнасты», названную настолько классно, что я аплодировал из-за океана и сам назвал свою заметку – «Блеск на острие».
Хозяйка журнала любезно разлила нам по чашкам чай. В этот момент открылась дверь и нашим взорам явился-не-запылился Евгений Борисович Рейн собственной персоной. Давненько не виделись!
Поседели, поредели, поплешивели. Только глаз на меня смотрит тот же, чёрный, искоса, с неодобреньем из-под густой брови – неестественно, слишком уж чёрной, неужели накрашенной по седине? Мы обнялись…
Никаких «здрасьте», подобающих встрече, я от него не услышал.
Присев к нам за чайный столик, он объявил без предисловий:
– Я профессор Литературного института… Фул профессор! Я получил Государственную премию в Кремле! Я получил премию «Поэт»! Я получил Пушкинскую премию нашу и ещё получу немецкую Пушкинскую премию фонда Топфлера! Осенью я стану почётным доктором в Йейле.
После таких громовых утверждений наступила пауза. От меня ожидался «симметричный ответ». Вспомнилась излюбленная цитата из Пастернака, а верней из его перевода Тициана Табидце:
Кто взошедшее солнце, как бомбу,
На рассвете огнём набивал?
Что ты скажешь похожего, в чём бы
не сказался болтун-самохвал?
Воистину… Мог бы я припомнить и язвительную пьесу Наймана о том, какими путями добываются литературные премии. Но мой ответ был нарочито смиренным:
– Что ж, поздравляю тебя, Женя, с такими большими достижениями. И я тоже, как ты знаешь, профессор Иллинойского университета. К наградам я не стремился, но кое-какую известность в литературе имею. Ты, возможно, слышал о таких справочниках, как «Who is who», – например, кто есть кто в Америке, в Мировой поэзии, в Мире, наконец. Так вот, они для переизданий засылают мне свои анкеты, и там в графе «награды» я неизменно вписываю: «Анна Ахматова посвятила мне как поэту стихотворение “Пятая роза“». И ты знаешь, это прекрасно выглядит на их страницах, не хуже любых премий!
И тут только я понял, какой глубокий укол в сердце я, даже не подумав, нанёс бывшему другу: ведь как известно, из нашей четвёрки один получил от Ахматовой «Последнюю», другой «Небывшую», я «Пятую», а он, Рейн, никакой розы не был удостоен.
Мы вышли вместе, как в былые институтские времена, и я предложил ему пойти пообедать с нами, но куда? — он ведь теперь москвич, пусть сам укажет.
– Здесь рядом ЦДЛ, – оживился Рейн. – Там подают фирменные, лучшие в мире котлеты де-воляй!
Вскоре мы оказались в том легендарном зале, где писатели с пьяным бесстрашием выясняли, кто есть кто в литературе и мире, где звучали самые ядовитые эпиграммы, где раздавались самые звонкие на свете пощёчины, о чём поведал уже отошедший в лучшие миры Лев Халиф в одноименном («ЦДЛ») романе или, как сказали бы теперь – «блокбастере», который послужил последним пинком, отправившем его в эмиграцию.
Зал был тёмен и пуст, свет исходил лишь от витрины буфета, тоже довольно пустой. Советская классика – ресторан закрыт на обед!
Вот вам и «де-воляй»… Рейн схватил себе из буфета две последних сосиски, нам с Галей досталось по мини-салатику в скромных фаянсовых мисочках.
Кинжальный шедевр Наймана «Жизнь и смерть поэта Шварца» пришёлся бы тогда убийственно кстати! Именно потому он и не был упомянут, хотя суть дела выражал идеально. Казалось бы – любимцы Муз, небожители, наследники Серебряного века… А для того, чтобы утолить жгучее и неостановимое желание получить Премию, что только они не используют: угодничество, притворство, цинизм, оговоры, интриги, обман, торг и подкуп – гораздо больший набор средств, чем у сервильных литераторов прошлого, которых мы презирали.
Пушкин признавался, что при встрече с царём «чувствует подлость во всех жилках». Живая душа! Мёртвые души от своей подлости не страдают.
С содроганием вспоминаю собственный опыт, когда я оказался на размашисто масштабной тусовке «Московского биеннале».
Вас вызывает Москва
Знак признания залетел в нашу иллинойскую глубинку в виде письма из Московской городской думы за подписью Евгения Бунимовича.
В письме находился ещё один примечательный документ, по содержанию повторяющий приглашение от Московской Думы, но… Там стояла подпись Андрея Битова, Пен-президента, писателя и известного буяна; лист с официальной шапкой был жестоко покомкан, затем тщательно расправлен, снабжён печатью и отправлен в отдельном конверте. И я живо представил себe такую сценку у них на улице Неглинной, 18/1.
Кабинет президента Пен-центра представляет из себя вытянутую к окну комнату, большую часть которой занимает длинный дубовый стол без стульев. Во главе стола в единственном деревянном кресле сидит, свесив лысоватую голову с заметным изъяном в черепе, Андрей Битов: рубленые черты лица, мешки под глазами, мокрые усы. Стук в боковую дверь.
Битов: Войдите! (входят член правления Бунимович и генеральный секретарь Ткаченко, раздаются взаимные приветствия).
Бунимович: Тут вот какое дело, Андрей Георгич, осенью мы организуем очередное Биеннале… Москва – город поэтов! Приглашаем русскоязычных коллег из Зарубежья. С жильём – не вопрос, гостиница Россия всё равно уже бросовая, там и расселим… А вот с билетами сюда и обратно мы не потянем, пусть сами озаботятся. Но надо им помочь, хотя бы дополнительным приглашением от Пен-центра. Мы уже и текст на английском подготовили.
Ткаченко: И печать поставили… (передаёт письмо).
Битов: Ну что ж, дело хорошее (подписывает письмо не глядя, затем спохватывается). – А что я тут подписал? Вдруг, самоотречение мне подсунули… Шутка! (пытается прочитать поанглийски).
Бунимович: Это – в Америку, профессору Бобышеву, поэту, с обращением к тамошним организациям, чтоб посодействовали…
Битов (лицо его краснеет от возмущения): Кому-кому?
Бобышеву? Да вы что! Да вы знаете, кто он? Он же Марину у Бродского увёл! И чтоб – такому? Да я – ни за что! (комкает письмо и отшвыривает его от себя далеко по столу).
Бунимович: Да? Я и не знал… А я ведь уже послал ему приглашение от Думы. Нехорошо получается.
Ткаченко: Это ничего, сейчас всё сделаем! (аккуратно расправляет письмо, разглаживает его на столе, ставит свою подпись под битовской и выходит из кабинета).
Бунимович: Спасибо, Андрей Георгич! (уходит следом).
Поблизости от кормушки
Гостиница «Россия», построенная в 60-х в Зарядье под стоны и вздохи краеведов, возвышалась сразу позади храма Василия Блаженного, подавляя приземистую округу, и была одним из самых громких пропагандных объектов при Брежневе.
И вот теперь я вселился в «Россию» как заморский гость. Да, виды из окон хороши, но в коридорах запустение, номера тесны, мебель халтурная, воздух спёртый, а цены в буферах зашкаливают! Гостиница обрекалась на слом.
Зато оттуда было всё близко, хотя места встреч были рассованы по каким-то дворовым проездам и пролазам, где располагались клубы с громкими именами, как, например, «Классики XXI века». Какое, однако, нетерпение – век-то ведь только начинался, а они уже… Но иностранцам (а я таковым и был) выдавали холщёвые сумки с фестивальными программками событий, и эта сума на плече выделяла и отдаляла меня от прочих. А я и не зарекался…
В кулуарах стали попадаться среди незнакомой толпы знакомые, хотя и постаревшие лица: вот Слава Лён, вот Миша Генделев!
Сдержанно обнялись, ветераны и великаны XX века; появилось угощение, и Лён тут же за высоким столиком принял меня в Академию Русского Стиха, коей он был президентом. Вдруг стать академиком, хотя и потешным, было забавно… И ничего, что какой-то молодой классик выхватил из-под носа блюдо с пирожками, – Генделев сумел удержать бутылку с коньяком.
Лён выдвинул теорию метафизической матрицы, которую якобы я разработал, а Бродский заимствовал и присвоил. Примеры: мои «Крылатые львы» и мои же «Новые диалоги доктора Фауста». Ну, как сказать, – мы ведь учились друг у друга, взаимные заимствования, конечно, были… Что же касается «Диалогов», то да, я их начал писать после разговора с Иосифом на эту тему, собравшись дать ему образец метафизической поэмы, как я её себе представляю, – эдакий эталон или даже наглядное пособие… Ясно, кто был заведомым адресатом этой вещи, а могла бы стать и Ахматова, которая давно предлагала нам попробовать «на зубок» тему Фауста. В споре двух голосов я намеревался дать возрастающую череду созерцаний, или умозрительных опытов о пространстве. Сочинение поэмы сопровождалось разного рода драматическими событиями, она получила иное развитие и потому, закончив, я вписал под заголовком не какое-то там псевдотаинственное «М. Б.», а без экивоков следующее:
«Марианне Павловне Басмановой посвящаются эти опыты», отчего поэма сразу приняла внешне вызывающий вид. Но голоса в «Диалогах» были её и мой.
Между тем, фестиваль разгулялся вширь на всю Ивановскую, прошёлся вдоль по Тверской-Ямской, а далее укатился вглубь по коленцам переулков, где располагались залы и площадки для выступлений. Там-то и происходила знаменитая московская тусовка: шли презентации, чествования, фуршеты, увенчивались победители, вручались премии заведомым кандидатам. Словом, там играла младая жизнь…
A мне предстоял ещё авторский вечер в симпатичном кафе-клубе «ПирОГИ», где я ранее пытался столоваться по фестивальным талонам.
Закуски были хороши, обеды – дрянь! И всё с утра пошло не туда… Как-то между прочим, случайно встретившись, меня предупредил Алёхин, главред «Ариона», что медиатора на моём вечере не будет. Все, мол, заняты по другим площадкам. Это сразу отбросило меня на периферию происходящего. А я надеялся представить новую книжку стихов «ЖарКуст», которую выпустил в Париже мой заочный друг, доброжелатель и спонсор. Полиграфически она получилась прелестной, ну а стихи – стихи пусть оценят сегодняшние москвичи, которые придут их послушать. Придут ли? Надо срочно найти своего человека, кто бы представил меня публике, – на эту роль охотно согласилась Ольга Кучкина. С ней мы встретились в разгар московского дня где-то в издательском центре, где я получил залежалый гонорар, и, пока её нашёл, в городе начался час пик. Знаете ли вы, что значит час пик в большом городе? Я-то думал, что знаю по водительскому опыту в Нью-Йорке и Чикаго… Но такого столпотворения, бессмысленного и беспощадного, я ещё не наблюдал. Мы сели в Ольгину бээмвэшку и сразу оказались заперты чужими бамперами и боками. Тут же на ступенях показался некий любитель поорать и с возвышения стал «расшивать пробку», зычно командуя, кому и куда. Такого бесстыжего на полную громкость мата я не слышал ни в том тысячелетии, ни в этом… Поймав зрачками в зрачки мой ненавидящий взгляд, он чуть сбавил свой раж, и Ольга в этот момент ловко вырулила в поток стремящихся машин.
В клубном зале «ПирОГов» явно готовилось что-то не то.
Приходили целеустремлёнными группками молодые люди (не мои ли читатели?), что-то озабоченно расспрашивали у официантов и тут же исчезали. А те сновали, расставляя по залу столики. На мои недоуменные вопросы я услышал: «Помещение заказано под банкет!».
И действительно, ряд сдвинутых столиков у стены уже представлял из себя довольно нахальное подобие леонардовской «Тайной вечери», и там уже рассаживались, увы, не мои гости. Ждали виновника торжества.
А вот и он! Им оказался Бахыт Кенжеев, только что получивший из рук Бунимовича главный приз и решивший немедленно это дело отметить.
Как же так? Показываю хронотоп в расписании фестиваля: здесь и сейчас должен быть мой авторский вечер! Бахыт исчезает, потом появляется с вялыми извинениями и приглашает присоединиться… Ну нет! Мы посидим в горьком и гордом унижении в стороне.
Надо сказать, Ольга Кучкина оказалась большой молодчиной и переждала этот нелёгкий час, меня не покинув. Вечер мой состоялся, пришла запоздалая публика, Ольга была на высоте, я тоже повеселел: читал стихи из «Жар-Куста», надписывал и раздавал просто так свою драгоценную книгу. А Андрей Грицман выступил с укором всем ликующим, праздно болтающим, оттирающим поэта Бобышева, «нашего эмигрантского Державина».
Заключительный день проходил в клубе «На Брестской», в двух шагах от монумента «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи», причём, очень по-здешнему, сам клуб находился на Второй Брестской, а входить надо было с Первой.
Ну, ничего, народу вместилось достаточно, молодые классики XXI-го века на этот раз держались паиньками, как институтки при классной даме, поскольку вечер вела Ирина Дмитриевна Прохорова, авторитет среди литераторов безусловный.
В том, что эта дама и вправду классная, я убедился на публичной лекции, которую она дала у нас в Иллинойском университете. Её в первую очередь безупречный английский, благородный тон, естественность манер производили впечатление на фоне наших академических мужланов, – да простят меня мои среднезападные коллеги, но по сравнению с ней это так. В разговоре после лекции както сама собой возникла идея напечатать мою книгу стихов в её издательстве НЛО, и что ж? – вскоре она была напечатана под названием «Знакомства слов»! Кстати, – подумал я, – вот тебе и Андрей Белый, только без бутылки и яблока…
На фото мы сидим рядышком в клубе «На Брестской» перед внимающей толпой, она и сама с интересом слушает, как я теперь выступаю в том же качестве, что некогда – она.
После лекции мы с Игорем Померанцевым постояли с бокалами в руках, как на западной парти, обмениваясь репликами и глядя на литературную молодёжь, которая самозабвенно приступила к бесплатному угощению. Мы, только что выступившие, отчитавшие стихи и доклад, своё отработали, нас выслушали, и мы их больше не интересовали. Было уже поздно, и я зашагал нетвёрдой походкой вверх от Триумфальной площади по направлению к «России». Мне оставалось пересечь не без опаски Красную площадь, невидимо протыкаемую властными лучами, чтобы, пройдя слева от Василия Блаженного, спуститься в Зарядье и выйти к гостинице. Милиционер остановил меня жезлом.
– Дальше нельзя.
– А как же пройти? Мне нужно в «Россию»!
– Проход вот здесь, – и он махнул влево.
Я свернул в проулок, где высилась мрачная громада ГУМа.
Какая-то фигура промчалась мимо, обогнав меня с топотом и что-то выронив на панель. Тут же возникла другая тёмная фигура.
– О, это деньги, смотри! – сказал некий тип с деланной радостью, подобрав упавшую пачку. – Это же доллары! Что с ними делать?
– Отдайте владельцу.
– Так он же убёг. Давай поделимся, зайдём тут куда-нибудь…
– А мне-то почему? — сказал я, трезвея.
– Так мы же вместе нашли! – сказал он, показывая двадцатку с Эндрю Джексоном.
Тут до меня дошло, что ловушка вот-вот захлопнется, – в сознании замигал сигнал тревоги от комбинации мильтонов с бандитами, бандитов с мильтонами, – и я рванул прочь в какую-то щель между домами, заставленную автомобилями…
…Пока я собирал свои пожитки в номере, спать осталось недолго, и я вынес вещи к дежурной по коридору. Скоро я уже мчался на частнике по опустевшим уличным просторам в аэропорт… Домой, домой!
Если считать, что моя развлекательная поездка была ещё и охотой за каким-нибудь московским поощрением, то она явно не удалась. Да я и сам никогда не был хватом. Что тогда говорить об охотниках на крупную дичь – они куют свой характер с детства! Я имел возможность наблюдать становление такого ловца славы.
Когда-то самый молодой, он не был одинок, входя в узкий круг поэтов, которых Ахматова скопом называла (может быть, иронически) «волшебный хор», но к каждому относилась всерьёз и подарила трём из них по стихотворению-«розе». Ему она посвятила «Последнюю». Этого одного бы хватило, чтобы остаться посмертно на полях примечаний к собраниям её сочинений.
Но поэзия – это не хор мальчиков «а-капелла». Будущий лауреат это рано понял и, главное, поверил в свой выбор, уже в 22 года написав «на вырост»: «Я памятник себе воздвиг иной». Однако он бурно развивался и вскоре, действительно, обрёл свой стиль. Ему свойственно было изощрённое чувство формы, законы которой он сам же нарушал неостановимым, завораживающим потоком слов дважды, трижды, четырежды перехлёстывавшим через ожидаемый конец, раздвигая таким образом пределы стихотворения и превращая его в поэму.
Неизбежная инфляция слов при таком их обилии не только не охлаждала читателей и слушателей, но, наоборот, их привлекала. При живом авторском чтении напор повышающихся интонаций голоса затоплял формы стихотворений и создавал иллюзию невероятного вдохновения.
Он шёл прямым и быстрым путём к цели. Слабых, бывало, использовал; сильных делал соперниками. Даже партийно-государственная охранка, грозящая тюрьмой и ссылкой, казалась ему не столько препятствием, сколько средством, ускоряющим его путь: «Чем хуже, тем лучше…». Так оно и вышло. Вообще, начиная с победного возвращения из ссылки, он полностью был обращён на Запад.
Он эмигрировал в 1972 году и начал своё дальнейшее восхождение с уже готовым мировым именем. Латинские названия поэм, английские эпиграфы и посвящения, западные реалии и география, сам суховато скептический тон его стихов, – всё это делало их более лёгкими в переводах, более понятными на других языках.
Нобелевская премия 1987 года была давно ожидаема, но всё-таки новость прозвучала совершенно неожиданно. В эмигрантской среде она вызвала народные ликования, похожие на те, что были вызваны полётом Гагарина в космос. Третья волна, нацеленная прежде всего на успех, обрела своего героя. Общее мнение можно было выразить одной фразой: «Наконец-то дали кому нужно!». Одни говорили: «за стихи», другие – «за биографию», но эта премия как бы оправдывала заодно всю эмиграцию. Обстановка чего-то требовала и от меня, и я по телефону продиктовал в «Русскую мысль» поздравленье лауреату, – что-то в таком духе:
«Нобелевская премия нередко становится пышным надгробием для писателя. К счастью, она досталась в этом году ещё молодому, полному творческих сил человеку. Я желаю ему многих свершений в литературе или на любом ином поприще, даже если он захочет его сменить, добившись конечных высот в поэзии».
Что я имел в виду под сменой поприща, сейчас не помню.
Возможно – то, что он даст теперь дорогу другим? Как бы не так! Уже не он, – фанаты вытаптывают любую тень конкуренции, оставляя пустошь вокруг его памятника. А останки от него самого торжественно догнивают на острове мёртвых, расположенном наискосок через лагуну напротив Венеции.
Мог бы жить и посейчас. Стоило ли это всех премий мира?
2022-11-21
Champaign IL
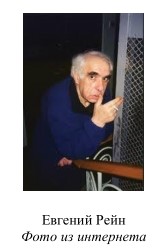

Опубликовано в Эмигрантская лира №4, 2022






