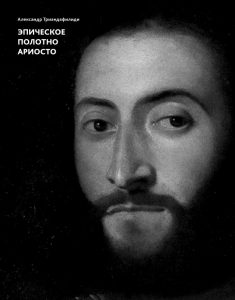Поэма Лудовико Ариосто (1474-1533) «Неистовый Роланд» — одна из вершин мировой поэзии, выдающаяся рыцарская эпопея Ренессанса. Первый в России полный её стихотворный перевод, размером подлинника, выполнявшийся мною на протяжении двадцати лет, готовится к выходу в московском издательстве «Престиж Бук». Читатель получит возможность ознакомиться не только с самим этим неувядающим произведением и подробным комментарием к нему, но и с авторским продолжением, опубликованным Альдом Мануцием под названием «Пять песен» (на русский язык не переводилось даже фрагментарно). В трёх томах издания планируется воспроизвести полную серию иллюстраций к поэме знаменитого Гюстава Доре (свыше 600 гравюр) из французского издания 1879 года. Перед публикацией хочется напомнить читателям Prosodia о значении этого памятника литературы и поделиться некоторыми сюжетами из переводческой кухни.
Каждая развитая эпоха человечества, каждая цивилизация, имевшая свою культуру, знаменовалась героической эпопеей, увековечившей все её свершения и чаяния.
Индия дала миру «Махабхарату», Эллада — «Илиаду», Рим — «Энеиду» Вергилия, Персия — поэму Фирдоуси, европейские Средние века — поэму Данте. Эпоха Возрождения, как одна из самых светлых, гуманистических эпох, ещё не придавленных колесами технического прогресса, подарила нам сразу целый ряд художественных памятников подобного значения на разных языках. Если выделить «Неистового Роланда» из их числа, то мы сразу усмотрим в нём все признаки истинной героической эпопеи, построенной на романтическом начале. Всевидящее око автора охватывает не только ряд сильных личностей, героев с перипетиями их запутанных приключений, но и все известные тогда страны и народы и даже запредельные миры: луну, земной рай, преисподнюю.
Современный читатель, старающийся понять величие шедевра старинной поэзии, может задаться справедливым вопросом: «В чём же величие? Размер вовсе не означает ценность. Нужно ли это сейчас?» Сомнения понятны: грандиозные поэмы ещё лет двести тому назад ушли в прошлое, а наш суетный век не предоставляет нам такого досуга, какой был у людей веков минувших, для погружения в омут длинной и запутанной поэмы, далёкой (впрочем, не совсем) от сегодняшних реалий. Увы, и опыт показывает, что современный поэтический текст более ста строк уже не воспринимается читателем: что поделать, мы привыкли к прозе! Но вглядимся в канву произведения начала XVI века, которое сам автор назвал ковром, вытканным «из многих разных нитей». При объёме почти в 39000 строк (для примера, в «Божественной Комедии» только 14233), сколько бы мы ни продвинулись в чтении, мы никогда не потеряем канву этого полотна, не утонем в нем, а только будем приятно утруждать воображение, нагромождая яркие впечатления одно на другое, как от великолепно срежиссированного многосерийного фильма.
Налицо первая заслуга Ариосто — мастерство рассказа. Автор по мере долгого повествования не безлик, не растворён в повествовании, но в то же время он не подавляет своим «я» сюжет, как делает Байрон в «Чайльд Гарольде» и «Дон Жуане» — правда, то совсем другая эпоха. Он направляет читателя во время удивительного путешествия по сплошь выдуманному им, сочинителем, миру, беседует с читателем, увлекает блестящей эрудицией, потешает немеркнущей иронией, поскольку повествовать о рыцарях в серьёзном тоне уже тогда, на заре Чинквеченто, было неприемлемо. Напрашивается вывод: горький смех Сервантеса, звучащий реквиемом по рыцарской культуре, коренится в радужном смехе Ариосто.
В поэме много сюжетных линий, которые то переплетаются, то вновь расходятся, чаще обрываясь на самом интересном месте, и поэт внезапно возвращается к ним через каких-нибудь 300 или 500 октав, обрывая в свой черёд предыдущее повествование, и тоже на самом интересном месте. При этом каждый раз, переменяя нити рассказа, Ариосто лёгким жестом, всего в нескольких строках, пробуждает в памяти читателя события, предшествовавшие описываемым давно, десятки, а то и сотни страниц назад.
Мы сживаемся с замечательными образами героев: ветреной, но коварной Анджеликой; бесстрашным, но одержимым любовью к ней Роландом; благородным, но подверженным колдовским чарам Руджером; хитрым авантюристом Астольфом, удостоенным аудиенции самого апостола Иоанна; доблестной девой-воительницей Брадамантой; отчаянной Марфизой и другими.
В повествовании можно выделить три основные сюжетные линии: первая — Анджелика и связанные с ней любовные неудачи рыцарей, здесь же, как апофеоз, Роландово безумие; вторая — Руджер и Брадаманта, их идеальная любовь просматривается на протяжении всей поэмы; и третья — странствия Астольфа, самые фантастические эпизоды «Неистового Роланда». Но это три магистральных линии, у каждой есть множество побочных веток, каждая из которых приносит роскошные плоды. К магистральным также примыкает линия Зербина и Изабеллы, предстающая нам сперва романтической историей любви принца и царевны с преодолением препятствий, а после — трагической развязкой пробуждающая в читателе чувство подлинного сострадания к её героям (смерть Зербина в бою, песнь XXIV). Псевдоисторический фон, осада Парижа и вторжение в империю Карла Великого сарацинских полчищ, вторичен, все основные герои Ариосто как бы лишены патриотического сознания и странствуют обычно по собственному волеизъявлению.
Вторая заслуга Ариосто — совершенство композиции. Основные сюжетные линии поэмы усложняются вставными новеллами, расположенными с удивительной симметрией. Тринадцать новелл не воспринимаются в поэме чем-то инородным, они неразрывно связаны с магистральными сюжетами, дополняют их и, главное, направляют основное действие подчас в новое русло. Каждая новелла, будучи сама по себе законченным целым, могла бы стать отдельной, блестяще разработанной поэмой.
Новеллы, как правило, несут в себе сложную любовную интригу, либо со счастливым исходом («Джиневра», «Олимпия»), либо с несчастным и даже трагическим
(«Верность Филандра», «Алкест»); в них сказывается богатый опыт итальянской новеллистики, накопленный за три столетия, с той разницей, что вместо обычной для новелл прозы автор изъясняется стихами.
Новеллы приключений образуют особый пласт в поэме, являясь благодатной почвой для многочисленных «волшебных» эпизодов. Добрые и злые маги, феи, духи, черти, великаны и карлики, заколдованные замки, летающий конь гиппогриф, волшебные предметы пёстрым калейдоскопом заполняют пространство поэмы, её мир существует по законам, предписанным ему волей авторской фантазии. Рационализму «чудес» средневековых рыцарских романов итальянский Ренессанс противопоставил рыцарскую приключенческую поэму с её могучим аппаратом сверхъестественного. Разнообразные колоритные чудовища взяты Ариосто из итальянского фольклора (Орко), из античной мифологии (Протей, Манто), из богатой традиции аллегорий (зверь на источнике Мерлина в песне XXVI), но чаще созданы его собственной фантазией либо вымышлены предшественником, Маттео Боярдо. Часто в описаниях чудесного поэт черпает вдохновение из бездонного кладезя классической мифологии. Образованному читателю сразу, например, видны параллели между Анджеликой, прикованной к скале и оставленной на съедение морскому чудовищу, и Андромедой, которую из того же положения спас пролетавший мимо Персей, а волшебный щит Руджера играет роль головы Горгоны у Персея. Приходится, правда, признать, что Руджер, прилетевший к Анджелике на гиппогрифе, смотрится куда эффектней; и эта сцена, запечатленная на картине Энгра, стоит у нас перед глазами. Людоед Орко, в пещеру к которому попали герои новеллы о Норандине, восходит к гомеровскому Полифему, а с Олимпией, покинутой на острове неверным любовником, повторяется история Ариадны, но последующее её спасение от пасти того же чудища Роландом — уже умелый авторский ход. Орда чудовищ, преградивших Руджеру путь в царство доброй феи Лоджистиллы, словно взята из средневековых мистерий и моралите, это яркая вереница аллегорий человеческих пороков, встающих на тернистом пути к добродетели. Безусловно, Ариосто опирался здесь на образы из поэмы Данте, а последующие творцы поэтических аллегорий опирались уже на него (например, Спенсер в «Королеве фей»). Аллегории играют свою чёткую партию в гигантском оркестре поэмы. Ариосто прекрасно понимал, что боги Гомера и Вергилия в эпосе Нового времени невозможны. Гениальной ошибкой их ввёл впоследствии Камоэнс, а век спустя, уже в эпоху барокко, Тассони в «Похищенном ведре» из сонма языческих богов создал свою комическую «машинерию». Богов у Ариосто заменяют не только христианские святые, ангелы и адские демоны, описанные, как правило, в шутливом тоне; для этих целей служат и аллегории.
Спесивый и отважный язычник Мандрикард сопутствуем демоническими Враждой и Гордыней, а вершиной аллегорического искусства Ариосто явился эпизод с появлением архангела Михаила в монастыре при веренице отрицательных олицетворений.
Здесь уже под маской аллегории выступает острая сатира.
Важным объектом рассмотрения в «Неистовом Роланде» является время. Круг интересов поэта настолько велик, что ему были тесны рамки эпохи, в которой неизбежно должны были действовать Роланд и другие рыцари Карла Великого. Да и сам итальянский Орландо — это далеко не тот французский Роланд, муж Альды, вся жизнь которого была посвящена отечеству. Разумеется, если реальная эпоха тесна поэтическому гению, то её этому гению необходимо выдумать, как выдумали осаду Парижа маврами и африканца Аграманта, вторгшегося во Францию. Ариосто унаследовал веками слагавшуюся традицию. До него были певцы-кантастории, Пульчи, Боярдо, его окружали поэты, разрабатывающие сходную тематику, более того, «Неистового Роланда» он начал как раз там, где оборвалось то необъятное полотно, что сплетал граф Боярдо, выдумавший среди всего прочего и Анджелику, и любовь Роланда к ней. Великая поэма явилась продолжением (giunta) «Влюблённого Роланда», тоже по-своему великой, но если поэма Боярдо при всей её прославленности тихо, но безвозвратно отошла в раздел истории литературы, то giunta Ариосто уже который век не прекращает волновать человеческие умы как живое и неувядающее произведение.
Классицизм, унаследовавший богатства Ренессанса, но уступавший ему широтой творческой свободы, век спустя именно композицию и пёстрый стиль ставил в вину нашему поэту. Законодатель и вождь классицизма Николя Буало утверждал, что героическая поэма не должна быть перегружена событиями и должна иметь только один сюжет, расширяющийся и углубляющийся по мере повествования. Познакомившись с «Неистовым Роландом», мы видим обратное. Неприятие Ариосто французской ложноклассической теорией способствовало тому, что долгое время поэма не была оценена русской культурой, а воспринималась скорее как авантюрный рыцарский роман.
«Неистовый Роланд» полностью на русский язык переводился три раза (если не считать перевода с немецкого А. Ястребилова, очевидно, очень слабого и потому ни разу не изданного). Первый перевод был выполнен в прозе с французского, прозаического же, переложения неким С. Молчановым в 90-х годах XVIII века. Вышло из печати только три тома перевода из предполагавшихся четырёх. Второй перевод был выполнен через столетие, тоже в прозе и тоже с французского, под редакцией В.
Зотова. Имена переводчиков, трудившихся под его началом, остались неизвестны.
Казалось бы, нескованность правилами стихосложения позволит прозаическим переводчикам передать образы великой поэмы с максимальной точностью и глубиной, воздействуя на ум читателей, однако Зотов и Молчанов сохраняют лишь занимательность фабулы рыцарского романа, что, видимо, объясняется их незнанием подлинного текста. Итак, оба этих переложения называться переводами не имеют права, и как научный источник восприниматься не могут. Поэтому русскоязычному читателю на сегодняшний день остаётся только перевод М.Л. Гаспарова, опубликованный ещё через сто лет после зотовского. Перевод этот, выполненный верлибром с делением на восьмистишия, подводит черту под исканиями русских переводчиков Ариосто и вместе с тем он, по выражению самого Гаспарова, «экспериментален». Учитывая колоссальные заслуги учёного в отечественном литературоведении, можно только восхищаться столь огромной и продуктивной работой, выполненной столь занятым человеком.
Поистине академическому труду не хватает только одного — поэтического обаяния классических октав, неотъемлемых от эпоса итальянского Ренессанса. Переводчику удалось проникнуть в самые глубины ариостовской мысли, но ценой потери важнейшей составляющей — стихотворной формы.
Ариосто — признанный мастер октавы, именно в его поэме, проникнутой лёгкой иронией, эта форма раскрывается в полном совершенстве. Она буквально «играет», передавая всю сложнейшую авторскую инструментовку: непринуждённое описание рыцарских поединков, таинственность и красочность фантастических коллизий и персонажей поэмы, яркие баталии, гневные инвективы и необузданные славословия, вдохновенные пророчества будущих географических открытий, полёт на луну в сопровождении апостола Иоанна и многое, многое другое — всё это, переплетаясь в лабиринте сюжетных линий, уносит читателя в бездну фантазии Ариосто, и октава, как спасительная нить, помогает читателю наслаждаться поэмой, а не «тонуть» в ней.
Представим себе, что кто-нибудь вознамерится пересказать «Евгения Онегина», пусть мастерской, но прозой или «модернизовать» его верлибром. Будем ли мы воспринимать такую переделку? Напрашивается вывод, что полного поэтического перевода великой поэмы на русском языке до сих пор не существовало.
Из фрагментарных переводов Ариосто остановлюсь на двух.
Примерно десятая часть поэмы воспроизведена в октавах талантливой русской переводчицей Александрой Курошевой, уже прославленной к тому времени переводом канцон Фиренцуолы (1933). Работа, одобренная корифеями итальянистики А.К.
Дживелеговым и М.Л. Лозинским, выполнялась по заказу издательства Academia, во главе которого стоял, как известно, Максим Горький, из европейских литератур предпочитавший итальянскую. Увы, в связи с закрытием издательства в 1937 году перевод не был завершён и остался только в виде фрагментов из разных песен, подборка которых вышла отдельной книгой в 1938 году.
Первое, что бросается в глаза при исследовании перевода Курошевой, это его верность оригиналу, можно сказать, смысловая эквивалентность в отдельных октавах, точность рифм и ясность изложения. Как я подсчитал, точность перевода составляет 75-80%, примерно как и у Лозинского в переводе Divina Commedia. Но при этом стих не достигает той лёгкости, как у Ариосто: переводчице явно доставляет серьёзную трудность третья рифма октавы. Там, где Ариосто парит в облаках, Курошева иногда идёт по земле тяжёлой стопой. Но отдельными пассажами можно восхищаться, например,
Безумством было б дать вам обещанье
Роландовы безумства перечесть…
(Fur., XXIX, 50, 1-2)
В этих отдельных удачах Курошевой, мне кажется, достигается желаемое тождество перевода и оригинального текста. Приступая к «Неистовому Роланду», я внимательно изучал перевод Курошевой, многое учитывая из её опыта, сверял октава в октаву с оригиналом и держал его перед глазами, работая над соответствующим отрывком.
Переводы Е.М. Солоновича (4 больших фрагмента) делают несомненный шаг вперёд в художественном осмыслении поэмы.
Читая их, невольно осознаёшь, что за дело взялся не просто мастер перевода, а поэт, стремящийся к конгениальности в передаче легкости стиха. Солонович не буквалист, как Курошева, он переводит, можно сказать, «октаву в октаву», а не «строка в строку», поэтому его точность ниже, чем у Курошевой. Я стремился соединить точность Курошевой с гладкостью Солоновича и дать тем самым принципиально новый поэтический перевод, в отличие от предыдущих, полный.
Совершенно случайно, когда уже работа была завершена, я узнал о переводе 15 песен поэмы размером подлинника, выполненном уральским поэтом Ю.В. Конецким (1947–2014). О работе друг друга над Ариосто, осуществлявшейся, по-видимому, одновременно, мы не знали. Смерть помешала ему завершить начатое, и этот перевод, ознакомиться с которым у меня нет пока возможности, по сей день не опубликован.
Светлая память коллеге!
В заключение, думаю, уместно будет сказать немного о тех принципах, которыми я руководствовался в своей работе.
Первым важным вопросом для меня была передача имен действующих лиц (их около двухсот!). Строжайшая латинизация имен, как у Гаспарова, меня не прельщала.
Отказался я и от русификации имен: например, имя коня «Златоузд» у Гаспарова, отсылает нас к русским былинам, далёким от итальянского Ренессанса и чуждым ему, поэтому оставлен «Брильядор» (briglia — узда, oro — золото), в противном случае и Родомонта нужно было бы окрестить «Гороломом» или, того хуже, «Горогрызом».
Сколь бы ни казалось заманчивым сохранение в переводе итальянских форм имён, пришлось дать привычные русскому слуху Роланд, Руджер, Аграмант вместо Орландо, Руджиеро, Аграманте. Во-первых, потому, что они уже вошли в традицию у нас, а во-вторых, из-за трудности вставки их в стихотворную строку: Руджер — 2 слога, Руджиеро — 4. В этом я солидарен с А. Курошевой, совмещавшей итальянские формы имен с латинизированными. Как и Курошева, как правило, я передаю женские имена в итальянской форме: Дораличе, Фьордилиджи вместо Доралиса и Флорделиза.
Отдельно нужно сказать относительно Риччардетто, персонажа второстепенного, передача имени которого вызвала затруднения. Мною была принята архаичная форма «Рихардет», использованная русским переводчиком Н. Осиповым, опубликовавшим в 1801–1802 годах под таким названием переложение поэмы Никколо Фортегуэрри.
Теперь что касается поэтической техники. Согласно русской традиции октав, идущей от «Домика в Коломне» Пушкина, в переводе соблюдено правило альтернанса, мужские рифмы чередуются с женскими.
Итальянские классические рифмы почти сплошь женские, изредка встречаются дактилические (мужские рифмы у Ариосто отсутствуют), но в русском варианте при таком объёме стихотворного текста сплошные женские создавали бы монотонность. Иногда в угоду подлиннику я допускал дактилические рифмы, что уже делал в переводах итальянских октав С.В. Шервинский. Вопрос стихотворного размера был решён согласно русской традиции: силлабический одиннадцатисложник передан пятистопным ямбом с вольной расстановкой цезур, но преимущественно на второй стопе стиха. По возможности передано богатство рифм подлинника.
У Ариосто все рифмы точные; встречаются однокоренные (amico — nemico), составные (perle — per le), омонимические; иногда вместо рифм в конце строки ставится одно и то же слово; изредка слово переносится и рифмуется его половина; тройчатки рифм как бы сами собой возникают из текста, нет ни малейшей натянутости — Ариосто истинный виртуоз стиха. Передать его великолепие в русском эквиваленте крайне сложно, но это необходимо, ибо только в этом случае работа по праву сможет называться «переводом Ариосто».
На первом же подступе я столкнулся с неразрешимыми на первый взгляд трудностями, связанными с точной передачей октав поэмы. Уже сама эта форма сложная и капризная: в ней две тройчатки рифм, а, как справедливо заметил Г.А. Шенгели, «зарифмовать три строки вчетверо труднее, чем две», поэтому в угоду третьей рифме в октавах некоторых поэм и возникает «чрезмерная болтливость». Однако к Ариосто «болтливость» не относится, в его поэме всё взвешено и гармонично, подчинено сложнейшей и тончайшей многоплановой композиции; его стихи я могу сравнить с живописными шедеврами его друга Тициана, Рафаэля или Микеланджело. Две строки, замыкающие октаву, как бы резюмируют сказанное в первых шести, выводят им антитезу или складываются в чёткий афоризм.
Форму я одолел далеко не сразу. Понадобилось перевести восемь с лишним песен с 1998 по 2000 год, чтобы понять, что «всё не то» и начать заново. Знаменитая первая строфа поэмы чрезвычайно сложна своей смысловой насыщенностью. Её дословный, не претендующий на художественность, перевод выглядит следующим образом: «Дам, рыцарей, оружие, любовные приключения, / куртуазию и отвагу я намереваюсь воспеть / тех времен, когда направились (подвиглись) Мавры / по морю из Африки во Францию, / стремимые гневом и юношеским пылом / Аграманта, их короля, / который желал отомстить за смерть Трояна / королю Карлу, императору Римскому». Окончательный вариант вышел после двадцати двух попыток, но в итоге вместилось почти всё. Первая октава как бы задаёт тон последующим четырём тысячам восемьсот сорок одной и вместе с тем определяет уровень, ниже которого переводчик не должен опускаться.
Замечательное сравнение красавицы с розой (I, 42-43) вошло в итальянскую литературу как образец лирического изящества. Неудивительно, что знаменитые русские поэты К. Батюшков и П. Катенин, поклонники Ариосто, владевшие итальянским языком, в 20-х годах XIX столетия дали свои переложения этого этюда-шедевра, тем самым обогатив русскую лирику. Мне думается, что со своей задачей лучше справился Батюшков:
Девица юная подобна розе нежной,
Взлелеянной весной под сению надежной …
Здесь мы видим не только поэтическую мощь классического сентиментализма, но и твёрдую приверженность оригиналу. Именно с этого этюда, можно считать, зародилась богатая традиция русских поэтических переводов Ариосто, поддержанная Пушкиным
(«Пред рыцарем блестит водами…»)
В работе над «Неистовым Роландом» я ставил перед собой две задачи: 1) сохранить поэтическое обаяние подлинника, не греша против норм русского языка и 2) передать текст максимально точно. Удалось ли это мне, решать читателю.
Хочется выразить благодарность коллегам и учителям, бесценными советами помогавшим мне на разных этапах работы: Наталье Борисовне Апушкиной (1936–2005), Нине Владимировне Забабуровой (1944–2014), Евгению Владимировичу Витковскому и всем участникам проекта «Век перевода», под чьим бдительным оком рождались строфы моего труда.
ИЗ «НЕИСТОВОГО РОЛАНДА» ЛУДОВИКО АРИОСТО
Перевод Александра Триандафилиди
ПЕСНЬ XVII, ОКТАВЫ 22-68.
(Рыцарь Грифон, сын Оливьера, вместе со спутниками приезжает
в Дамаск, где в это время королем Сирии Норандином готовится
грандиозный турнир. Они останавливаются на ночлег у одного из рыцарей,
и тот рассказывает им, по какому случаю учреждён праздник)
Со спутниками въехав в стольный град,
Грифон взирает сколь доступно глазу;
Был некий рыцарь с ними встрече рад,
Он во дворец гостей отводит сразу,
Учтив, как здесь обычаи велят,
И там уж им ни в чём не знать отказу;
Он первым долгом в ванны их отвёл,
А после усадил за пышный стол.
Хозяин рассказал, что Норандином,
Дамаска и всей Сирии царём,
Был брошен клич и местным паладинам,
И тем, чей далеко отсюда дом:
На следующее утро властелином
Турнир назначен в центре городском,
И кто отважен так, как с виду мнится,
Тот непременно сможет отличиться.
Грифон сюда спешил не для того,
Но принял предложение охотно,
Ведь всякий раз отрадно для него
Явить отвагу, что всегда почётно.
Он только расспросил про торжество,
Справляется ль оно здесь ежегодно,
Иль, может, царь впервые захотел
Увидеть, кто насколько храбр и смел.
Сириец так ответил: «Представленье
В четвёртый месяц будет каждый год.
Покамест в новь сие увеселенье,
Но вряд ли кто подобное найдёёт.
То в память о властителя спасенье,
Сим днём он был избавлен от невзгод,
Что мучили его дотоль треть года
Предчувствием смертельного исхода.
Но, впрочем, по порядку обо всём:
Владыка, Норандином наречённый,
Немало лет пылал любви огнём
К прелестнице красы непревзойдённой,
Рождённой Кипра славным королем.
Сыграл с ней свадьбу государь влюблённый;
Со свитою и молодой женой
Он устремился в Сирию домой.
Попутный ветер полнил нам ветрила,
Мы шли по карпатийским злым зыбям,
И вот внезапно буря подступила,
Внушая ужас кормчему и нам.
Три дня, три ночи в море нас носило
Кривой дорогой по лихим валам
И, наконец, прибило измождённых
Ко брегу меж ручьёв и рощ зелёных.
Постелен полог, высится шатер,
Под зеленью деревьев нам раздолье:
Те жарят пищу, разложив костёр,
Те блюда расставляют для застолья.
Тем временем в луга, в укромный бор
Уходит государь, чтоб на приволье
Ловить оленей и косуль вокруг;
Колчан и лук приносят двое слуг.
С охоты ожидая государя,
Мы нежились в приятном забытьи,
Как видим: к нам бежит в слепом угаре
Вдоль брега Орк. Господь не допусти
Вам, добрый рыцарь, этой мерзкой твари
Однажды повстречаться на пути.
О ней вам лучше знать лишь по рассказам,
Чем собственным хоть раз увидеть глазом.
Каков он вширь, представишь не тотчас,
Не смерить мне, какого был он роста.
Я помню, цвета мяса, вместо глаз
У чудища два костяных нароста.
Вам говорю, обрушился на нас,
С горой сравнить его мне будет просто;
Клыки из пасти как у кабана,
Нос удлинён и мерзостна слюна.
Несётся, водит рылом, водит ухом
Сродни легавой, взявшей след добыч.
Узрели мы его и пали духом,
И страх погнал нас в бегство, словно бич.
Что слеп он, мало радости, ведь нюхом
Он большего в охоте мог достичь,
Чем кто-то при чутье и остром зренье.
И только в крыльях было бы спасенье.
Мы кто куда, но скрыться тяжело:
С ним урагану состязаться трудно,
Из сорока и десять не смогло
Добраться до спасительного судна.
Одних в охапку чудище сгребло,
Других — под шкуру в полости нагрудной;
Иными Орк суму свою забил,
Что по-пастушьи на боку носил.
В пещеру над прибрежною волною
Принёс улов незрячий козопас.
С бумагой чистой спорил белизною
Пещерный мрамор, заключивший нас.
Чертог был скрашен знатною женою,
Печальной, скорбной, но не без прикрас.
При ней различных возрастов девицы,
Есть и дурнушки, есть и чаровницы.
А возле грота был ещё другой,
Устроенный под самою вершиной,
Не менее просторный и большой;
У чудища стояла там скотина.
Несчитанное стадо и зимой,
И летом выпасал пастух злочинный,
И гнал, и загонял он в срок его
По прихоти своей, скорей всего.
Людское мясо извергу услада:
Ещё в свою пещеру не вступил,
Как сразу трёх из нашего отряда
Засунул в пасть, живыми проглотил.
У стойла сдвинул камень, выгнал стадо,
А после нас в том стойле заточил.
На сытный выпас он погнал скотинку,
Терзая сладкозвучную волынку.
Наш царь вернулся на берег морской
И понял сразу, что стряслось худое,
Вокруг ни звука, ни души людской
Ни в роще, ни в шатрах, ни на постое.
Не зная, приключился грех какой,
Помчался к морю он, лишась покоя,
И видит, как, спасаясь от беды,
Матросы тянут якорь из воды.
Они его заметили на взморье
И шлюпку не замедлили послать,
Но Норандин, узнав, какое горе
Принёс ему сегодня злобный тать,
Назад метнулся и помчался вскоре,
Не зная сам, куда ему бежать.
Не жить ему, утративши Лючину,
Решил: спасёт иль примет здесь кончину.
Где на песке виднелся свежий след,
Там и бежал он, по-над морем прямо,
И, весь любовным гневом изошед,
Домчался быстро до скалы той самой,
Где в страхе, что вернётся людоед,
Томились ожиданием тогда мы
И в каждом звуке чуяли беду,
Что Орк вернётся взять нас как еду.
Но жребий был у государя светел:
В пещере только Оркова жена.
Кричит ему: «Пока ты смерть не встретил,
Беги, не то изловит сатана»!
«Изловит, не изловит, — он ответил, —
Спасусь ли, не спасусь, беда одна:
Сюда не по оплошности вторгаюсь —
Любимую спасти намереваюсь».
Он вопрошает у неё, кого
Чудовище на взморье похватало.
Но о Лючине более всего
Услышать хочет, что же с нею стало?
И добрая утешила его,
Сказав, чтоб не боялся он нимало:
Жива Лючина, пленница сих мест,
Поскольку женщин вовсе Орк не ест.
«Порукой в этом и сама я буду,
И дамы, что попали в сей чертог,
Здесь ни единой пленнице не худо,
Пока не выйдем за его порог.
А кто бежать попробует отсюда,
Ту покарает Орк: или в песок
Живьём зароет, иль цепями сдавит,
Иль нагишом на берегу оставит.
Когда принёс он пленников, поверь,
В пещере побросал, не различая.
И дамы, и мужчины здесь теперь,
У тех одна судьба, у тех другая.
Их пол по нюху различает зверь,
И дамам не грозит погибель злая,
Зато мужчин предпочитает есть
То по четыре за день, то по шесть.
Как вызволить красавицу отсюда,
Пожалуй, посоветую навряд.
Скажу одно: то благо или худо,
Она жива, и будь известью рад,
Спасайся ради Господа, покуда
Твой запах не учуял супостат.
Как входит он, так носом сразу водит
И мышь саму в её норе находит».
И царь ей отвечает: нипочем
Он не уйдёт, не свидевшись с Лючиной.
При ней погибнуть лучше, чем потом
Томиться в одиночестве кручиной.
И видит дама: никаким путём
Не изменить намерений мужчины.
Умом и добротой наделена,
Она решает, что помочь должна.
А в этом доме туши припасали
Овец, баранов, горных коз, козлов,
Их шкуры всюду с потолка свисали,
Шло мясо для обеденных столов.
Хозяйка посоветовала в сале
Из вынутых козлиных потрохов
Намазаться царю как можно гуще,
Чтоб скрыть им запах, телесам присущий.
Тем временем зловонием козла
Отчётливо запахло от героя,
Ему хозяйка шкуру подала,
Залезть в неё велела с головою.
Когда его личина облекла,
На четвереньках следом за собою
Ему велела двинуться к скале,
Что милую его таит во мгле.
Покорен Норандин, он остаётся
Перед дырой пещерной ждать поры,
Когда заря вечерняя зажжётся,
Чтоб среди стада внутрь войти горы.
Чу, слышит, песнь волынки раздаётся,
То, зазывая звуками игры,
Гнал безобразный пастырь гурт безмерный
С обильных пажитей в приют пещерный.
Представьте, как же трепетал в нём дух
По мере приближения урода,
И вскоре устрашающий пастух
Ему предстал у каменного входа.
Но страх пред силою любви потух,
Ведь у любви не ложная природа.
Орк подошёл и камень отволок;
Тут Норандин войти со стадом смог.
Загнав свой гурт, Орк выход закрывает
И первым долгом поспешает к нам,
Обнюхивает всех и двух хватает,
Предав их плоть безжалостным зубам.
Как вспомню эту пасть я, пробирает
Всё тело трепет с пòтом пополам.
Уходит зверь и, сбросивши личину,
Наш царь спешит обнять свою Лючину.
Но счастья на лице её не зрит,
Лишь безутешность с горечью досады,
Она-то знала: смерть ему грозит,
И ей не будет никакой пощады.
«Во всех моих напастях, — говорит, —
Мне не было, супруг, иной отрады,
Как только то, что я одна взята,
Тебя же доля миновала та.
Хоть приходилось горько мне дотоле
Готовиться к исходу бытия,
Но плача лишь о собственной юдоли
Подобно всем, не так страдала я,
Как в час, когда и ты со мной в неволе,
Ведь смерть твоя мне горше, чем своя».
Так продолжала жалобу в кручине
Не о себе, о милом Норандине.
В ответ он: «Я в надежде шёл сюда
Спасти тебя и всех, кто здесь с тобою.
А нет — погибнуть лучше мне тогда,
Чем жить без солнца, скрытым темнотою.
Как я вошёл, так выйду без труда
И всем вам путь к спасению открою.
Вы лишь отважьтесь на себя надеть
Те шкуры, в коих тягостно смердеть».
И тут открыл он нам хозяйки ковы
Чудовищному нюху супротив,
Велел облечься в смрадные покровы,
Чтоб зверь не сгрёб нас, запах ощутив.
Никто не прекословил, все готовы.
И тут мужчины, женщины, схватив
По козлищу, их взрезали тогда же,
Избрав таких, что подряхлей и гаже.
Из их кишок мы сало извели,
Употребив его как мазь густую,
Затем себя их шкурой облекли.
Покинул день гостиницу златую.
Лишь первый солнца луч достиг земли,
Вернулся Орк в пещеру роковую
И задудел в волынку во весь дух,
Сзывая стадо на цветущий луг.
Загородил он выход пятернёю,
Чтоб нам со стадом не уйти отсель.
Кто с шерстной, со щетинистой спиною,
Тех пропускал он в выходную щель.
Походкой непривычной, чередою
Под шкурами мы шли туда, где цель,
И чудище препятствий не чинило,
Но вот Лючина в страхе подступила.
И то ль от нас в отличие не так
Она зловонным салом умастилась;
То ль медлен был, то ль слишком плавен шаг,
И разыграть козла не получилось;
А то ль крестца её коснулся враг,
И ей вскричать от ужаса случилось;
А то ль волос развеялась копна, —
Не знаю что, но узнана она.
Тогда мы не смотрели друг на друга,
Всяк за себя в напасти общей был,
Но обернулся я на крик испуга
И вижу: шкуру Орк с нее стащил,
И загнана в загон царя супруга.
Мы все, куда слепой пастух стремил,
В числе скотины в шкурах шли покорно
По луговине злачной и просторной.
Дождались мы, когда под сенью крон
Носатому вздремнулось изуверу,
Бежим кто к морю, кто на горный склон;
Лишь Норандин не следовал примеру,
Любовью неизбывной поглощён,
Вернуться помышлял он в ту пещеру,
Где или гибель верную найдёт,
Иль милую подругу обретёт.
Он видел, как в темнице одиноко
Несчастная осталась чуть жива,
И он, отчаявшись в тоске жестокой,
В пасть хищника не бросился едва.
От хобота стоял он недалёко,
Чтоб кинуться под зубы-жернова,
Но всё надежду сохранял благую
Освободить супругу дорогую.
А вечером, пригнав стада назад,
Чудовище дозналось о побеге
И, ощущая непомерный глад,
Лючину обвинило в неуспехе.
Связал её цепями супостат,
Оставил погибать одну на бреге.
Царь, увидав, что казнь из-за него,
Скорбя, едва не умер от того.
И вечером, и поутру несчастный
Смотрел, как страждет, плачет красота,
Когда он в поле иль в вертеп ужасный
Покорно шёл в компании скота.
Та грустным ликом умоляла страстно
Покинуть бога ради те места,
Где жизнь его на волоске висела,
Ведь ей помочь бессилен был всецело.
Напрасно людоедова жена
Немедленно бежать его просила,
Ему была Лючина лишь нужна
И не желал спасаться он без милой.
Любовь и Верность, вам служа сполна,
Испил он чашу горести унылой,
Пока сын Агрикана и Градасс
К той круче не добрались как-то раз.
Благодаря отваге их могучей
Лючина из полона спасена,
Но паче ей помог счастливый случай.
На брег морской она отведена,
Где ждал её отец в тревоге жгучей.
То час был пробужденья ото сна,
И Норандин стоял ещё в загоне
И ждал дневного выпаса на склоне.
Когда же день затвор ему открыл,
Он не увидел узницы прекрасной.
О том супругу Орка вопросил,
И всё со слов её тут стало ясно.
Молитву к Богу царь наш обратил,
Чтоб, спасшись из неволи сей ужасной,
Булатом, златом ли, посулом вновь
Им обрелась жена, его любовь.
Тем временем он в радости огромной
Выходит среди стад на злачный луг
И ждет, когда, под сению укромной
Возлегши на траве, заснёт пастух.
Бежит, — бежит и днем, и ночью темной,
Лишь бы спастись от Орка крепких рук.
В Анталье быстро на корабль садится;
Три месяца уже, как он в столице.
Гонцов на Родос, Кипр, в Египет слал,
К ливийцам, туркам и в края иные,
Прекрасную Лючину всё искал,
И лишь три дня, как новости благие
О том, что спасена она, узнал.
Известие пришло из Никосии.
Была задержка по вине ветров,
Что дули против воли моряков.
Тогда король возликовал душою
И учредил на славу торжество,
Чтоб с каждою четвёртою луною
И вновь, и вновь нам праздновать его.
Решил почтить он памятью такою
День славного спасенья своего,
До коего под шкурою треть года
Ходил он в стаде пастуха-урода.
Что видел я, о том и сказ гласит,
От государя слышал также много;
Он столько выстрадал календ и ид
От горя до счастливого итога!
Того же, кто рассказ мой исказит,
Вы сей же миг осаживайте строго».
Так от хозяина узнал Грифон,
Откуда дивный праздник учреждён.

Опубликовано в Prosōdia №11, 2019